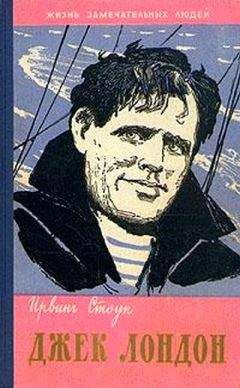Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
Знание
Перед Новым годом стали возвращаться нормальные ощущения, прежде всего брезгливость. Меня угнетала немытость моего тела и мерзостность тюфяка под тонкой больничной простынкой. Мне все еще не разрешалось ходить, так что, к большому неудовольствию девяти соседей по палате, мне приносили суденышко. Все девять на время процедуры прерывали домино, чтение, разговоры и выходили в коридор. Санитарка открывала форточку и оставляла меня сидеть. Облегчившись, я вскарабкивался на койку. Судно уносили. Соседи благоразумно выжидали в коридоре минут десять-пятнадцать, прежде чем вернуться в палату.
Так я получал минут двадцать одиночества в сутки. Я лежал и смотрел в открытую форточку. Было видно немного серого неба — декабрьского, январского — и ветка, то черная, то в снегу. Иногда на ветку садилась синица. В голове было пусто, как будто санитарка в той же посуде вынесла и последние мысли. Однажды из пустоты вдруг взялось знание: все, что со мной случилось, есть результат накопившейся за тридцать три года лжи.
Хочу уточнить, что это было не раскаяние, не угрызения совести, вообще нечто внеэмоциональное — чистое знание. Даже удивления не примешивалось к этому ниоткуда взявшемуся, словно через открытую форточку влетевшему вместе с сырым и холодным воздухом, знанию. И драматизма не было, хотя бы потому, что никакой такой особенной лжи я за собой не припоминал. Так, маленькие хитрости из разряда простительных время от времени. Порой не полная искренность, да и то только чтобы не портить компанию или не обострять домашние отношения. Но частью пришедшего со стороны ветки и синицы знания было то, что все эти ничтожные лжи накопились, доросли до критической массы, и я чуть не умер. После этого мне некоторое время не хотелось лгать.
Народ в палате менялся, я постепенно пережил всех там. Все были люди простые, занятные. Запомнился гипертоник мясник Куров. Выдаваемые ему лекарства он разделял на две кучки: желтенькие считал витаминами и ел, а остальные выбрасывал. Тумбочка у него была набита жареным и вареным мясом, птицей-однофамилицей, все это он запивал молоком и заедал кислой капустой. Он оглушительно и разнообразно тарахтел по ночам, за что его постоянно упрекали, но он лишь улыбался. Врачи говорили ему, чтобы ел поменьше: "Вам необходимо похудеть". Когда обход заканчивался, Куров злобно ворчал: "Подохнем, тогда похудаем", — и открывал свою пахучую тумбочку.
Был очень симпатичный веселый Смирнов, шофер заправочной цистерны из аэропорта. Он знал много фольклора. Когда кто-то выписывался, Смирнов напутствовал: "Ну, ты там передай нашим, что мы тут на хуях пашем, на твоем хотели, да хомута не нашли".
Будущее!
Теперь я могу сказать так: в те дни я на время утратил страх, желание лгать и будущее. Последнее было утрачено в каком-то неврологическом смысле, как иногда в результате травмы или болезни теряют чувство равновесия. Пока есть, его не замечаешь.
Утрату чувства будущего я обнаружил неожиданно. Я заметил, что, когда навещавшие меня говорят "завтра", "в пятницу", "через месяц", у меня нет внутренней реакции на эти слова. Словно бы мне ампутировали какой- то призрачный, но все-таки принадлежащий мне орган.
Потом мое будущее, как тень у Петера Шлемиеля, стало помаленьку отрастать. Но и сейчас мне кажется, что оно у меня не такое хорошее, как у других людей.
Улыбка
Убедившись в том, что то, что я думаю о своем физическом несчастье, важнее, чем само несчастье, я, как водится, стал интересоваться разными психотерапиями. Из популярной в то время книжки Владимира Леви я почерпнул много полезных советов. Например, Леви рекомендовал американское keep smiling: улыбаться, когда становится плохо. Дескать, если улыбка — мускульная реакция на положительные ощущения, то цепочка должна сработать и в обратном направлении. Иногда, просыпаясь ночью от стенокардии, я вспоминал про улыбку, и вроде бы легчало. Постепенно это стало у меня очень стойкой привычкой, хотя я не раз замечал, что людей раздражает моя ухмылка в неподходящие минуты.
Иосиф выполняет поручение
Папа с Ириной Николаевной в то время были в Ялте, в Доме творчества, и на отправлявшегося туда же Иосифа была возложена миссия как можно деликатнее сообщить отцу о моем инфаркте. Ирина Николаевна рассказывала потом, как это было.
Иосиф вошел к ним в комнату с видом не скорбным, а как бы уже за пределом скорби, с тем выражением трагической резиньяции, которое иногда появляется у него на лице при чтении стихов, и рыдающим голосом сказал: "Владимир Александрович, Леша в больнице…"
Отъезд
В предотъездный год я впервые читал Чаадаева. В букинистическом магазине ко мне подошла бедно одетая дама и вполголоса предложила купить книгу. Дорого — за сорок рублей. Это был Чаадаев Шаховского. Я купил. (Надо ли напоминать, что Чаадаев в СССР уже десятилетия не издавался?) Около этого же времени в ЖЗЛ вышла книга Лебедева о Чаадаеве. Летом 1975 года в Ужканавесе я читал ее вслух отцу. И вот что мне в связи с отъездными размышлениями запало в память. Чаадаев говорит, что вообще-то путешествовать не стоит, но если уж путешествуешь, то, может быть, найдешь дыру, чтобы проникнуть в самого себя.
Он оказался прав. Дыра свободы, я в нее нырнул и нашел самого себя. Не бог весть какой Маргарит, но какое ни на есть я прояснилось.
В том же году осенью мы с Юрой Михайловым долго ходили мимо опустевших уже комаровских дач и он как всегда говорил, говорил. Его едва ли не больше, чем меня самого, волновал мой отъезд. И вот он сказал: "Куда бы ты по Земле ни передвигался, ты всегда останешься в капсуле себя самого, своих страхов и комплексов". То есть нечто противоположное Чаадаеву. Это звучало угрожающе и убедительно, но к моему частному случаю Чаадаев оказался более применим.
Отъезд требовал изрядной смелости и решительности, и я стал решительнее и смелее, чем был. Это были новые ощущения, приятные до головокружения. Отсюда веселый оттенок всего, что происходило в последние четыре месяца, иначе это могло бы стать тяжелыми мытарствами.
Смешнее всего было с военкоматом. Через несколько дней после того, как мы подали прошение об эмиграции, пришла повестка явиться в военкомат. В былые времена я просто не являлся. Если приходили на дом, то Нина говорила: "Он в командировке, вернется через месяц". Иногда, обнаглев, я и сам это говорил. Таким образом я ухитрился за шестнадцать лет после окончания университета ни разу не попасть на сборы. Но, объявив о намерении покинуть социалистическое отечество, человек становился отщепенцем, на которого обращен гневный взор государства, и играть в прежние игры было бы опасно. Надо было идти. Шел я туда с трепетом, ибо слышал истории о том, как собравшихся эмигрировать нарочно забирали в армию на три года. А после трех лет обязательной службы ты считался причастным к военным секретам, и об эмиграции можно было забыть.