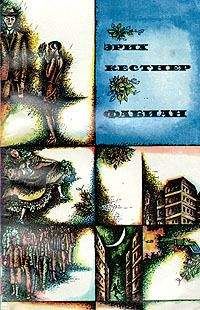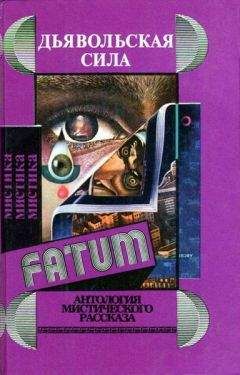Елена Макарова - Движение образует форму
Когда я приехала домой, я пошла дальше в своих размышлениях. Как же так, подумала я, не все здесь сходится: да, доброта преображает человека, дает ему защиту от идей, но ведь существует множество людей, которых не очень-то угощали любовью, но которые при этом не пойдут ни за каким знаменем. Значит, что-то еще влияет на человека, на его выбор. Отсутствие любви не означает автоматическое примыкание к какому-либо лагерю. Пока я не смогла понять, что же это за факторы, которые формируют человека, помимо отношения к нему окружающего мира. Он сам? А если он мал, а натиск силен? Или, может быть, даже маленькая толика любви на фоне общей озлобленности способна изменить человека, и если она ему попадается, то он хотя бы задумывается?
Вспоминаю свое детство и юность: собственный пример перед глазами. Ты не поверишь, но я мечтала об интернате, думала, там братство, никто не унижает, не издевается, не играет в подлые игры. И все-таки, пройдя через годы унижения, страха и одиночества, я всегда чувствовала категорическую невозможность причинить другому боль и желание подставить руки в защиту. Вспомнив об этом, мысленно я поделила мир на два полюса — черный и белый. Я подумала: наверное, те, кому изначально достался белый кусок, говорят себе: да, белое — это белое, мне с ним по пути, я буду идти этой дорогой и расширять ее. А те, кому достался мрак, могут либо застрять в нем, либо, наоборот, с ожесточением устремиться в светлую половину. Вот только в чем импульс? Где корни бунта? Тогда получается, что самая страшная область — серая. Она вроде бы и не резко отрицательная, вроде бы и менять что-то повода большого нет, но, похоже, именно до серой части труднее всего достучаться, а вот внушить ей что-либо — легче всего. Это та часть, которая не задает себе вопроса о правильности своих действий, она всегда все делает «как надо», как научили. Похоже, она самая подверженная стереотипам и влиянию извне. Но в любом случае за человеком всегда остается выбор, только бы вовремя увидеть, что он есть.
Неужели надо было поехать в Терезин, чтобы задуматься над этим?»
Новый день — новая жизнь
Ранним терезинским утром, когда мои студенты спали крепким сном, мне привиделся трюм корабля, в иллюминаторах вода-вода-вода, и всплывающие лица… История молодых евреев, которые в 1940 году пытались выбраться из Европы в Палестину. Корабль из металла, ярко освещен. На стенах рисунки, сделанные на плывущем корабле художником Бедей Майером и его младшим другом, тоже художником и тоже Бедей. Но не Майером, а Генделем. Корабль плывет под панамским флагом сквозь войну, и вот уже видны берега Хайфы… Но англичане не пускают корабль в порт. Переживших этот опаснейший круиз они силком пересаживают на другой корабль и отправляют в тюрьму на остров Маврикий, где оба Беди продолжают рисовать. В 1945-м младший кончает жизнь самоубийством, а старший доплывает до земли обетованной, где днем продает в магазине краски, а по ночам пишет ярчайшие полотна.
Картины — это уже второй зал. Темная комната. Освещено каждое полотно в отдельности. Мистерия, сновидение.
С 90-летним Бедей Майером меня свела судьба в Израиле в 1996 году. Тогда же я устроила его первую выставку в Иерусалимском театре. В 2003-м Бедя умер, оставив мне, почитательнице его таланта, свои картины. Он мечтал, что они попадут в Ходонин — чешский город, где он родился. Я написала в тамошний музей, но мне ответили отказом. Бедя был на Маврикии, а его старший родной брат, архитектор, в Терезине. Здесь он нарисовал свой автопортрет. И Бедю-то я нашла в Израиле именно благодаря этому рисунку.
В полседьмого утра я сидела в кабинете директора мемориала Терезин. Как он там оказался в такую рань? Не знаю. Я показала ему маленький каталог 1999 года и рассказала историю. В семь утра я вышла от него окрыленная. Он отдает в наше распоряжение оба выставочных зала Малой крепости Терезина. 2005 год. Решено.
Бедя вел кружок искусства в доме престарелых в Герцлии. Там он и жил с женой в маленькой уютной комнате.
Что дают старикам занятия искусством — не рукоделием, а именно искусством, — я поняла, посещая уроки Беди.
90-летний, он возвышался над 70-80-летними учениками как скала. Каким-то невероятным образом он возвращал их в детство, в ту пору, когда они жили кто в Марокко, кто в Сибири, кто в Берлине, к оркестровке цветов — яркое Марокко, блеклый Берлин… Я до сих пор вижу эти картины, развешанные по стенам класса, — помесь детства и старости, непосредственности и мудрости.
— Это не искусство, — говорил Бедя, — это раскрытие души.
В нашем возрасте дышать полной грудью — ни с чем не сравнимое удовольствие.
Как дирижер симфонического оркестра, он выходил на сцену последним. Оркестранты с кистями и красками наготове ждали взмаха его руки.
Свои картины Бедя держал в чулане, чтобы не смущать учеников. Последние работы на метровых холстах он рисовал ползком, пальцами.
— Стоять у мольберта и держать в руках кисть — в мои годы это непозволительная трата энергии!
Материализация видений приводит в экстаз.
За три месяца мы построили все, о чем я мечтала. Видения обрастали деревянными каркасами, покрывались стальными медными листами, пришурупливались друг к другу. Мы извели все шурупы в терезинском магазине и опустошали соседний, литомержицкий. Представляю, какой экстаз испытывает архитектор, когда видит спроектированное им здание, — когда-то и оно было видением.
Каждая новая выставка, а затем ее переезд и установка на новом месте — огромный, я бы сказала, ни с чем не сравнимый труд. Он приносит радость. Особенно последняя фаза, когда все фрагменты — актеры огромного шоу — занимают свои места, убирается строительный мусор — и ты видишь цельную вещь. Наверно, это можно отнести к рождению всего на свете — человека, книги, картины. Это сильное переживание.
О деликатности
Иерусалим. Суббота. Толстенький мальчик лет двенадцати, в кипе, и девочка лет шести идут куда-то вдвоем.
Куда они идут? К «Страшилищу», с горки кататься. А это километров пять отсюда.
— Мне надо худеть, — объяснил мальчик, — а ей — играть с детьми.
Он снял куртку, дал сестре бутылку с водой, — становилось жарко. Я слушала музыку в наушниках, они о чем-то говорили.
— Что ты слушаешь?
Мальчик очень добрый, это было видно по тому, как заботливо он обращался с сестренкой, с какой любовью смотрел на нее, как вел ее за ручку в довольно далекий поход — километра четыре, не меньше, да еще в гору.