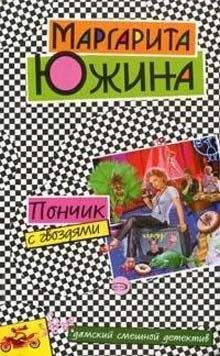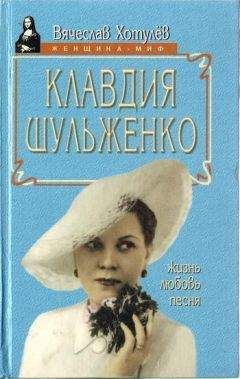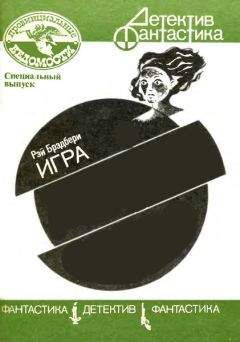Мария Ялович-Симон - Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940–1945 гг.
Чтобы довести все это до сведения начальника цеха Шёнфельда, использовали некоего господина Шёна, весьма курьезную фигуру среди наладчиков. Лет пятидесяти с небольшим, до крайности глупый и тщеславный, он вдобавок считал себя красавцем. И постоянно спрашивал молоденьких девушек в бригаде: “Разве я не симпатичный мужчина?” Каждые пять минут доставал из кармана зеркальце, разглядывал лысину с седым венчиком волос, а потом изрекал: “Волосы у меня по-прежнему красивые, хоть их и немного”. Все над ним смеялись, и евреи, и неевреи. Этот дурень верил, что, вступив в НСДАП, получит уйму привилегий, денег и прочего добра и тогда ему уже не придется вкалывать за гроши. Однако ж мечты его не сбылись.
Шульц и Херман взяли его в оборот, осторожно вовлекали в дискуссии и мало-помалу добились успеха: Шён стал противником нацистов. Его даже удостоили участия в саботажной группе. “Да! – решительно заявил он. – Теперь я понимаю: нацисты – преступники. Мои родители и деды всегда были порядочными людьми. И я не желаю быть членом преступной организации!” Тут ему, правда, объяснили, что так не годится, он должен остаться в партии, чтобы иметь доступ к внутренней информации заводской нацистской ячейки, ну и в определенных пределах влиять на эту ячейку. Шульцу и Херману приходилось, конечно, принимать в расчет его глупость. Оба превосходно умели польстить его тщеславию.
Душу они отводили на расово-политической учебе: там Шён провоцировал всех идиотскими вопросами, нацеленными на нелепость и противоречия этой псевдонаучной доктрины. Сам он, понятно, интеллектуально не тянул, но вопросы придумывал Херман, точно формулировал, записывал на бумаге и велел Шёну вызубрить их наизусть.
По нормальным законам охраны труда на очень больших станках разрешалось работать только мужчинам. Однако у “Сименса” на них трудились особенно рослые еврейки. Мы называли их “великанши”. Детали, которые они изготовляли, были так велики, что для нарезки внутренней резьбы им приходилось использовать тяжелый специнструмент – ручной клупп. Через некоторое время запястья у станочниц болели так, что они едва терпели.
Наладчика этой бригады все называли Штаковски, хотя на самом деле его звали Шчовски или вроде того, какая-то труднопроизносимая польская фамилия. Штаковски был нацист и носил на рабочем халате партийный значок. Впрочем, держался он корректно, не хамил, но в приватные разговоры с работницами никогда не вступал. Вполне дружелюбно объяснял, что им надо делать, без шутки, без улыбки, без единого слова, не относящегося к делу.
Ситуация изменилась, когда Штаковского послали на курсы мастеров, где требовалось очень много теории. К удивлению работниц его бригады, он знал, что одна из них изучала математику. И весьма несмело обратился к ней: “Вы ведь математик, а у меня с этим делом проблемы”. Потом он стал задавать ей вопросы (через ветошную почту), а она в туалете записывала ответы. Лед был сломан. В благодарность он даже приносил ей бутерброды, огромную ценность. Ей казалось, она спит, не может это быть реальностью, ведь, как и мы все, сильно недоедала.
Мало-помалу Штаковски завязал личный контакт со всей бригадой, а его самого Шульц, Шён и Херман приняли в свою картежную компанию. Все они регулярно встречались в арийской уборной и за игрой в скат старались на него повлиять. Постепенно фанатичный нацист превратился в безобидного попутчика, а это уже немало.
Часто наши наладчики исчезали в уборной на долгие часы. Даже Праля иной раз звали перекинуться в картишки, не хотели держать этого мерзавца в изоляции. И мы, конечно, их прикрывали: если случалась поломка и станок нуждался в переналадке, если нужно было точить сталь или перейти на другую ее марку, мы тихонько звали на помощь другого наладчика. Ведь прекрасно знали, кто с кем дружит и к кому можно обратиться.
С этими мужчинами, постоянно работавшими на “Сименсе”, у нас сложились настолько хорошие отношения, что я часто спрашивала себя: “Как же дошло до таких ужасных гонений на евреев? Здесь же совсем нет антисемитов, все люди вполне симпатичные”.
Но так было, понятно, не везде. Во-первых, Берлин – это не провинция. Во-вторых, я контактировала лишь с определенной частью общества. А в-третьих, я поняла: тот же немецкий обыватель, что смертельно ненавидел богатого еврея из переднего дома, возможно когда-то обманувшего его при продаже земельного участка, и всей душой желал, чтобы этот человек сгинул, ведь тогда он заберет ковер из его гостиной, – тот же немецкий обыватель не имел совершенно ничего против голодающих молодых девушек, которые, как и он сам, прилежно трудились.
Нам, подневольным работницам, местом встреч тоже служила уборная. Ведь это помещение, отведенное для евреек, мужчинам-арийцам посещать воспрещалось. Часто там устраивали маленькие спектакли: одна женщина, которая вообще-то хотела стать опереточной певицей, исполняла перед нами комические танцы, а мы пели какой-нибудь модный шлягер и хлопали в ладоши. А Эльза Готтшальк, одна из немногих с высшим образованием, читала лекции по испанской литературе, в общем-то специально для меня.
В цеху она держалась особняком, поскольку единственная из принципа обращалась ко всем на “вы”. “Нельзя опускаться до уровня наших врагов, – говорила она, – мы же на самом деле не заводские работницы”. За эту сухость ее считали смешной, и я тоже над ней посмеивалась. Но в глубине души признавала правоту этой сорокадвухлетней женщины из бригады великанш и хотела завязать с нею контакт.
Она быстро ответила на мои попытки пылкой дружбой. Часто обнимала меня за плечи и приказывала: “Вы завтракаете у меня!” Кое с кем из товарок она мне общаться не советовала: “Это не для вас!”
К сожалению, она была еще и безумно ревнива. Например, на дух не терпела Эдит Рёдельсхаймер, поскольку заметила, что я уважаю эту женщину и восхищаюсь ею. У Рёдельсхаймер был крохотный носишко и длинная верхняя губа. Когда она говорила, так и бросались в глаза огромные зубы. Кожа сплошь поросла густым светлым пушком, а вдобавок она носила весьма внушительные темные роговые очки, из-за близорукости. “Предупреждаю вас, Ялович. Эта Рёдельсхаймер – ведьма! – говорила моя новая подруга. – Свидетельством тому ее крохотный нос”.
Эльза Готтшальк была арийкой иудаистского вероисповедания. По большой любви ее отец очень недолго состоял в браке с еврейкой, которая рано умерла. Собравшись жениться вторично, он потребовал от будущей супруги, чтобы она приняла иудаизм. В этом браке родились несколько дочерей, все они воспитывались в иудейской вере, но затем их пути разошлись: одна вышла за еврея и уехала в Америку; вторая, замужем за важным офицером, отвернулась от иудаизма. Эльза Готтшальк осталась незамужней. До 1933 года она собиралась выйти из иудаистской общины, поскольку стала атеисткой. Но когда к власти пришли нацисты, решительно заявила о своей приверженности к иудаизму и из солидарности опять начала регулярно ходить в синагогу.
Однажды я побывала у нее в гостях. Она жила в Вильмерсдорфе, в большом, солидном многоквартирном доме с решетчатой шахтой лифта. Войдя в подъезд, я учуяла весьма характерный запах, который ни с чем не спутаешь, – смесь аромата хорошего кофе и восковой мастики. “Значит, – подумала я тогда, – есть еще люди, которые варят натуральный кофе и пользуются высококачественной мастикой”.
Эльза Готтшальк жила вдвоем с отцом, что роднило меня с ней. Мысленно я представляла себе этого высокообразованного человека, о котором она много рассказывала, крупным мужчиной с седой гривой волос. А оказалось, он маленький и лысый. У Эльзы была привычка то и дело класть руку ему на голову. “Перестань!” – твердил он.
Когда мы пили суррогатный кофе, она сказала:
– Итак, папа, – с ударением на втором слоге: папá, – вот увидишь, твои ожидания не будут обмануты. Мадемуазель Ялович блестяще копирует этого простака, ну, наладчика из-под Бромберга, я смеялась до слез. В нынешние времена редко выпадает случай посмеяться, но теперь и ты можешь увидеть сей маленький спектакль. Мадемуазель Ялович, не откажите в любезности!
Я польщенно засмеялась и встала. А потом вдруг по наитию сказала:
– Нет. Не хочу. Не хочу высмеивать простого, добродушного противника нацистов. – Я ведь точно знала, чего от меня ждали: как Макс Шульц в деревянных башмаках, танцуя польку, спешит по цеху и распевает “Дай мне распробовать алые губки, не отпускай в одиночку домой”.
Тут маленький лысый мужчина с одухотворенным лицом тоже встал.
– Эльза, – сказал он, – ты не обманула моих ожиданий. Поздравляю. Ты приобрела весьма стоящую подругу. Позвольте, барышня, и мне выразить ту же симпатию, какую питает к вам моя дочь. – В заключение своей краткой речи он объявил: – Сейчас я покажу вам самое святое.
В конце коридора он отворил дверь в маленькую комнату, где по стенам стояли высоченные, очень пыльные книжные шкафы. Повсюду паутина. Зачарованная атмосфера. Господин Готтшальк явно не пожалел ни расходов, ни усилий, чтобы собрать в этой комнате буквально все издания “Фауста” и литературу о “Фаусте”, какие сумел добыть. Он был большой поклонник Гёте, а в свободное время – исследователь “Фауста”.