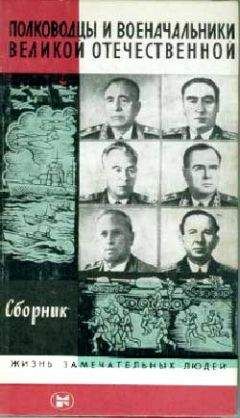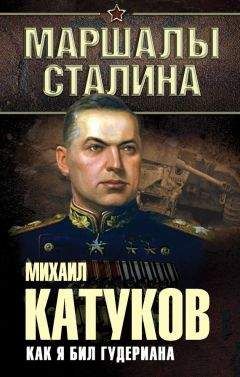Владислав Бахревский - Никон (сборник)
Взял в руки свитки, встал:
– Передаю вам эти списки ваших полчан. Храните воинство как зеницу ока! Любите и берегите по их отечеству, а к солдатам, стрельцам и прочему мелкому чину будьте милостивы. И ахти как заповедую вам: клеветников и спорщиков не допускайте до себя! Особенно же пребывайте в совете и любви. Богом о том молю вас! Если же презрете заповеди Божии и преслушаетесь нашего слова, – государь резко, широко перекрестился, – я перед Богом не буду виноват. Вы дадите ответ на Страшном суде!
Для Алексея Михайловича его заповедь не была пустословием для очистки совести. Эта заповедь происходила из глубочайшей религиозности царя и его понимания царской власти, где ответственность за действия всех людей царства была на его собственной совести.
Царь направлял свое войско не против людей Польского царства, но против неправды короля. Русские воины должны были помнить об этом.
В конце обеда царю поднесли на панагии хлеб. Царь взял от хлеба малый кусочек и стоял перед глядевшими на него боярами, и было видно, сколько тайного, великого смысла он придает этому кусочку Богородицына хлеба.
Отпустив высшие чины, Алексей Михайлович проследовал в сени Грановитой палаты и велел позвать полчан. Когда они собрались, сказал им:
– За злое гонение на православную веру, за обиды Московскому государству стоять бы вам крепко! А мы идем сами вскоре и за всех православных христиан начнем стоять. И если Творец пошлет кровию нам обагриться, то мы с радостью готовы всякие раны принимать вас ради, православных христиан. И радость, и нужду всякую будем принимать вместе с вами.
– Не допустим того, чтобы царская кровь пролилась! – взволновались полчане.
– Мы своих голов не пощадим ради тебя, царь!
– Положим за тебя головы!
– С радостью, государь!
Тронутый возгласами и тем, как на него глядели, как его любили все, Алексей Михайлович заплакал и сквозь слезы сказал:
– Предобрые мои воины! Обещайтесь на смерть, но Господь Бог за ваше доброе хотение дарует вам живот. А мы вас за службу всякой милостью будем жаловать. Святейший отец наш патриарх Никон помолится за всех нас!
Умиление западает в душу надолго, оно дрожжи для будущих хлебов. Однако хлеба эти могут испекаться на муке, а могут и на полыни. Несдобным тем хлебом кормят ненависть.
2426 апреля – день для памяти русского народа не выдающийся. А между тем это все-таки необыкновенный день. У наших предков нашлись-таки воля и сила прервать унизительный покой, покупаемый у соседей уступчивым бездействием, смиренным отказом от своих же городов и земель, своей памяти. Но память-то и есть сердце народа.
Память посылает по жилам кровь, и бывает – удары крови становятся оглушительными.
Россия и в худшие годины помнила об истинных своих рубежах, о своем предназначении – быть заступницей угнетенных и попранных.
Полые воды столпились у запруды, чтоб дружно, разом, сметя искусные валы, пролиться на простор, столь долго скрываемый от взоров.
Первая рать под водительством князя Трубецкого шла в Брянск для соединения с казаками гетмана Хмельницкого.
Поход этот был столь важен для Русского государства, что изначальный путь его пролегал через Кремль, через сердце России. Войско шло мимо царского дворца под переходы. На этих переходах на царском и на патриаршем местах восседали Алексей Михайлович и Никон. Патриарх кропил войско святой водой. Он и напутствовал бояр и воевод последним напутствием. Государь, блюдя патриаршее достоинство, слушал Никона стоя.
Святительская речь была краткой и ясной:
– Упование крепко и несумненно имайте в уме своем на Господа Бога. Общую заступницу, Пресвятую Богородицу, призывайте себе на помощь. Государевы дела делайте с усердием! Господь Бог да подаст вам силою Животворящего Креста победу и одоление. И возвратит вас, здравых, великому государю и всем русским людям на радость!
Князь Алексей Никитич Трубецкой, поклонившись патриарху до земли, ответствовал:
– О всеблаженнейший и пресветлейший отцам отец, великий государь, пресвятейший Никон, всея Великие и Малые России патриарх! Удивляемся и ужасаемся твоих государевых, учительных словес и надеемся на твое государево благоутробие. По твоему благословению и учению обещаемся с радостию служить безо всякие хитрости. Если же в бесхитростии или в недоумении нашем преступление учинится, молим тебя, пресветлейший владыка, о заступлении и о помощи.
Через день после проводов полка князя Трубецкого, 28 апреля, царь Алексей Михайлович отправился в Троице-Сергиев монастырь приложиться к мощам Сергия Радонежского, а 3 мая ушел в Звенигород, в любимый Саввино-Сторожевский монастырь. 10 мая он уже снова был в делах мирских, смотрел на Девичьем поле полки и всячески приуготовлял себя, войско и царство к походу. Воеводами в полки были назначены: в Ертаульный, то есть караульный, разведывательный, – стольник Петр Васильевич Шереметев, в Передовой – князь Никита Иванович Одоевский да князь Федор Юрьевич Хворостинин, в Большой – князь Яков Куденетович Черкасский и князь Семен Васильевич Прозоровский, в Сторожевой – князь Михайла Михайлович Темкин-Ростовский и Василий Иванович Стрешнев.
Передовой и Ертаульный полки после тех же проводов, что устроены были князю Трубецкому, отправились из Москвы по Смоленской дороге 15 мая.
Однако ж первыми шли не разведчики-ертаулы, но икона Иверской Богоматери, присланная в Москву из Царьграда от константинопольского патриарха Парфения. С иконою отправились в поход казанский митрополит Корнилий, архимандриты Саввино-Сторожевского монастыря, Спасо-Евфимиевского из Суздаля, Спасского из Казани, игумены монастырей: Петровского из Москвы, Борисоглебского из Ростова, Клопского из Новгорода.
Икону провожали шествием до Донского монастыря. Шел Никон со всем собором и царь с синклитом.
На следующий день в поход двинулся Большой полк, за Большим – Сторожевой.
18 мая пришла очередь государева Дворцового полка. Во главе его стоял сам царь Алексей Михайлович, а воеводами были Борис Иванович Морозов и Илья Данилович Милославский.
Вот уже второй час рейтары, среди которых был и Савва, на Девичьем поле ожидали приказа отправляться в поход, а приказа все не было.
Савва глядел на веселую кущу березок. Ветки, не обремененные листвою, топорщились в небо, и небо, голубое, вымытое весенними дождями, казалось таким новым, что камень, висевший на Саввиной душе все эти месяцы разлуки с Енафой, отпал вдруг. Не оттого, что забылась обида и неправда на патриарших людей, похитивших его у жены и дитяти – ведь уже родилось, а кто – дочь, сын? – и не оттого, что время лечит. Савва, провожая московские полки, тысячи и тысячи вооруженных людей, тысячи и тысячи телег обоза, догадывался, что на его глазах совершается великое государево дело и что для этого дела нужны многие люди, и если недостанет людей, то могут произойти военная беда и всякое государское неустройство. Но что более всего удивляло Савву, так это собственное спокойствие и охота. Он шел на войну, а стало быть, и на смерть без страха, ему только хотелось поскорее увидеть то, что было сутью войны. Увидеть ее молнию, ибо хотя тучи и производили впечатление грозное и громадное, но сила этой грозы и ее громадность могли быть проверены лишь в столкновении с иной, с иноплеменной грозой. Раннее майское солнце, совсем младенческое, для одной только радости, освоилось на небе и так вдруг разгорелось, что стало и жарко, и пить захотелось. И вот тут-то и пропели трубы, и ударили литавры, и засвистели флейты, и кони, заскучавшие еще более, может, чем люди, пошли охотно и весело.