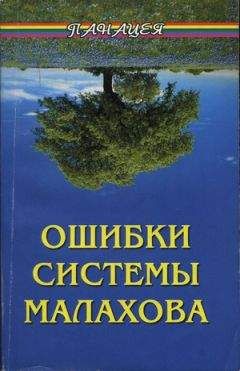Федор Шаляпин - Маска и душа
Мелькнула мысль уйти за сцену, но съ боку, какъ я уже сказалъ, выхода не было, а сзади сцена запружена народомъ. Я пробовалъ было сдѣлать два шага назадъ, — слышу шопотъ хористовъ, съ которыми въ то время у меня были отличныя отношенiя; «Дорогой Федоръ Ивановичъ, не покидайте насъ!»… Что за притча? Все это — соображения, мысли, исканiя выхода — длилось, конечно, не болѣе нѣсколькихъ мгновенiй. Однако, я ясно почувствовалъ что съ моей высокой фигурой торчать такъ нелѣпо, какъ чучело, впереди хора, стоящаго на колѣняхъ, я ни секунды больше не могу. А тутъ какъ разъ стояло кресло Бориса; я быстро присѣлъ къ ручкѣ кресла на одно колѣно.
Сцена кончилась. Занавѣсъ опустился. Все еще недоумѣвая, выхожу въ кулисы; немедленно подбѣжали ко мнѣ хористы и на мой вопросъ, что это было? — отвѣтили: «пойдемте, Федоръ Ивановичъ, къ намъ наверхъ. Мы все Вамъ объяснимъ».
Я за ними пошелъ наверхъ, и они, дѣйствительно, мнѣ объяснили свой поступокъ. При этомъ они чрезвычайно экспансивно меня благодарили за то, что я ихъ не покинулъ, оглушительно спѣли въ мою честь «Многая лѣта» и меня качали.
Возвратившись въ мою уборную, я нашелъ тамъ блѣднаго и взволнованнаго Теляковскаго.
— Что же это такое, Федоръ Ивановичъ? Отчего вы мнѣ не сказали, что въ театрѣ готовится такая демонстрацiя?
— А я удивляюсь, что Вы, Владимiръ Аркадьевичъ объ этомъ мнѣ ничего не сказали. Дѣло Дирекцiи знать.
— Ничего объ этомъ я не зналъ, — съ сокрушенiемъ замѣтилъ Теляковскiй. — Совсѣмъ не знаю, что и какъ буду говорить объ этомъ Государю.
Демонстрацiя, волненiе Теляковскаго и вообще весь этотъ вечеръ оставили въ душѣ непрiятный осадокъ. Я вообще никогда не любилъ странной русской манеры по всякому поводу играть или пѣть нацюнальный гимнъ. Я замѣтилъ, что чѣмъ чаще гимнъ исполняется, тѣмъ меньше къ нему люди питаютъ почтенiя. Гимнъ вѣщь высокая и драгоцѣнная. Это представительный звукъ нацiи, и пѣть гимнъ можно только тогда, когда высокимъ волненiемъ напряжена душа, когда онъ звучитъ въ крови и нервахъ, когда онъ льется изъ полнаго сердца. Святынями не кидаются, точно гнилыми яблоками. У насъ же вошло въ отвратительную привычку требовать гимна чуть ли не при всякой пьяной дракѣ — для оказательства «нацiонально-патрютическихъ» чувствъ. Это было мнѣ непрiятно. Но рѣшительно заявляю, что никакого чувства стыда или сознанiя униженiя, что я стоялъ или не стоялъ на колѣняхъ передъ царемъ, у меня не было и въ зародышѣ. Всему инциденту я не придалъ никакого значенiя. Въ самыхъ глубокихъ клѣточкахъ мозга не шевелилась у меня мысль, что я что то такое сдѣлалъ неблаговидное, предалъ что то, какъ нибудь измѣнилъ моему достоинству и моему инстинкту свободы. Долженъ прямо сказать, что при всѣхъ моихъ недостаткахъ, рабомъ или холопомъ я никогда не былъ и неспособенъ имъ быть. Я понимаю, конечно, что нѣтъ никакого унижения въ колѣнопреклоненномъ исполненiи какого нибудь ритуала, освященнаго нацiональной или религiозной традицiей. Поцеловать туфлю Намѣстника Петра въ Римѣ можно, сохраняя полное свое достоинство. Я самымъ спокойнѣйшимъ образомъ сталъ бы на колѣни передъ Царемъ или передъ Патрiархомъ, если бы такое движенiе входило въ мизансценъ какого нибудь ритуала или обряда. Но такъ вотъ, здорово живешь, броситься на всѣ четыре копыта передъ человѣкомъ, будь онъ трижды Царь, — на такое низкопоклонство я никогда не былъ способенъ. Это не въ моей натурѣ, которая гораздо болѣе склонна къ оказательствамъ «дерзости», чѣмъ угодничества. На колѣни передъ царемъ я не становился. Я вообще чувствовалъ себя вполнѣ непричастнымъ къ случаю. Проходилъ мимо дома, съ котораго упала вывѣска, не задѣвъ, слава Богу, меня… А на другой день я уѣзжалъ въ Монте-Карло. Въ петербургскiй январь очень прiятно чувствовать, что черезъ два-три дня увидишь яркое солнце и цвъѣущiя розы. Беззаботно и весело уѣхалъ я на Ривьеру.
81Каково же было мое горестное и негодующее изумленiе, когда черезъ короткое время я въ Монте-Карло получилъ отъ моего друга, художника Сѣрова, кучу газетныхъ вырѣзокъ о моей «монархической демонстрацiи!» Въ «Русскомъ Словѣ», редактируемомъ моимъ прiятелемъ Дорошевичемъ, я увидѣлъ чудесно сделанный рисунокъ, на которомъ я былъ изображенъ у суфлерской будки съ высоко воздѣтыми руками и съ широко раскрытымъ ртомъ. Подъ рисункомъ была надпись: «Монархическая демонстрацiя въ Марiинскомъ театрѣ во главе съ Шаляпинымъ». Если это писали въ газетахъ, то что же, думалъ я, передается изъ устъ въ уста! Я, поэтому, нисколько не удивился грустной приписке Сѣрова: «Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы».
Я Сѣрову написалъ, что напрасно онъ повѣрилъ вздорнымъ сплетнямъ, и пожурилъ его за записку. Но вѣсть о моей «измѣнѣ народу» достигла, между тѣмъ, и департамента Морскихъ Альпъ. Возвращаясь какъ-то изъ Ниццы въ Монте-Карло, я сидѣлъ въ купэ и бесѣдовалъ съ прiятелемъ. Какъ вдругъ какiе то молодые люди, курсистки, студенты, а можетъ быть и приказчики, вошедшiе въ вагонъ, стали наносить мнѣ всевозможныя оскорбленiя:
— Лакей!
— Мерзавецъ!
— Предатель!
Я захлопнулъ дверь купэ. Тогда молодые люди наклеили на окно бумажку, на которой крупными буквами было написано:
— Холопъ!
Когда я, разсказывая объ этомъ моимъ русскимъ прiятелямъ, спрашиваю ихъ, зачѣмъ эти люди меня оскорбляли, они до сихъ поръ отвѣчаютъ:
— Потому, что они гордились Вами и любили Васъ.
Странная, слюнявая какая то любовь!
Конечно, это были молодые люди. Они позволили себѣ свой дикiй поступокъ по крайнему невежеству и по сомнительному воспитанiю. Но какъ было мнѣ объяснить поведенiе другихъ, дѣйствительно, культурныхъ людей, которыхъ тысячи людей уважають и цѣнятъ, какъ учителей жизни?
За годъ до этого случая я пѣлъ въ томъ же Монте-Карло. Взволнованный человѣкъ прибѣжалъ ко мнѣ въ уборную и съ неподдельной искренностью сказалъ мнѣ, что онъ потрясенъ моимъ пенiемъ и моей игрой, что жизнь его наполнена однимъ этимъ вечеромъ. Я, пожалуй, не обратилъ бы вниманiя на восторженныя слова и похвалы моего посетителя, если бы онъ не назвалъ своего имени:
— Плехановъ.
Объ этомъ человѣкѣ я слышалъ, конечно; это былъ одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ и образованныхъ вождей русскихъ соцiалъ-демократовъ, даровитый публицистъ при этомъ. И когда онъ сказалъ мне:
— Какъ хотелъ бы я посидѣть съ Вами, выпить чашку чаю, — я съ искреннимъ удовольствiемъ отвѣтилъ;