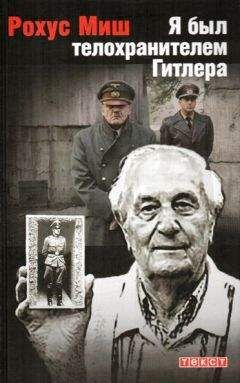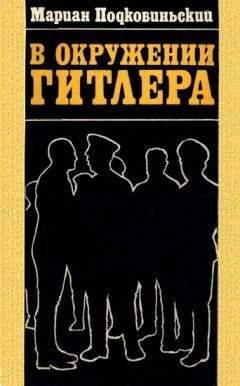Август Кубичек - Фюрер, каким его не знал никто. Воспоминания лучшего друга Гитлера. 1904–1940
Однажды вечером он заговорил об аэроплане братьев Райт. Он привел цитату из какой-то газеты о том, что эти известные авиаторы поставили на свой летательный аппарат небольшую, сравнительно легкую пушку и провели эксперименты, чтобы оценить эффект, который могла иметь стрельба с воздуха. Адольф, который был ярым пацифистом, был возмущен. Он сказал, что, как только создается новое изобретение, его немедленно ставят на службу войне. Кто хочет войны? – спросил он. Разумеется, не «маленький человек», далеко не он. Войны устраивают коронованные и некоронованные правители, которых, в свою очередь, направляют и которыми руководит их военная промышленность. В то время когда эти господа зарабатывают колоссальные суммы денег и остаются вдали от линии огня, «маленький человек» должен рисковать своей жизнью, не зная ради чего.
В общем, мысли о «маленьком человеке», о «бедных обманутых народных массах» играли у него главенствующую роль. Однажды мы видели демонстрацию рабочих на Рингштрассе. Мы оказались зажатыми в толпе зевак неподалеку от парламента и отлично видели волнующее действо. Я с беспокойством спросил себя: уж не это ли Адольф называет «революционной бурей»? Несколько мужчин шли во главе демонстрантов с большим транспарантом в руках, на котором было написано одно слово: «Голод». Для моего друга не могло быть более вдохновляющего призыва, потому что он сам очень часто страдал от грызущего его голода. Он стоял рядом со мной, жадно впитывая в себя эту картину. Какое бы сильное чувство он ни испытывал по отношению к этим людям, он оставался в стороне и смотрел на все происходящее со всеми его подробностями объективно и хладнокровно, как будто единственное, что его интересовало, – это изучение методов такой демонстрации. Несмотря на свою солидарность с «маленьким человеком», ему никогда бы и в голову не пришло принимать участие в манифестации, которая на самом деле была протестом против недавнего повышения цены на пиво.
Людей становилось все больше и больше. Казалось, что вся Рингштрассе переполнена возбужденными людьми. Они несли красные флаги, но гораздо больше о серьезности ситуации можно было судить по оборванной одежде и голодным лицам демонстрантов, чем по флагам и лозунгам.
Голова процессии достигла парламента и попыталась штурмовать его. Внезапно конные полицейские, которые сопровождали протестующих, вытащили сабли и стали наносить удары направо и налево. Ответом был град камней. Какой-то момент ситуация балансировала на лезвии бритвы, но в конце концов полицейские получили подкрепление и сумели разогнать демонстрантов.
Это зрелище потрясло Адольфа до глубины души, но свои чувства он озвучил не раньше, чем мы добрались до дома. Да, он был на стороне голодных и бедных людей, но также был против тех людей, которые организовывали такие демонстрации. Кто эти люди, которые держат в своих руках все нити, стоя за этими дважды обманутыми массами людей, которые управляют ими по своей воле? Никого из них не было на месте действия. Почему? Потому что их больше устраивало делать свои дела незаметно – они не хотели рисковать жизнью. Кто эти вожди несчастных демонстрантов? Это не те люди, которые сами испытали бедность «маленького человека», а амбициозные политики, жаждущие власти, которые хотели использовать нищету людей в своих корыстных целях. Взрыв негодования против этих политических стервятников завершил ожесточенную речь моего друга. Это была его демонстрация.
После таких случаев один вопрос мучил его, хотя он никогда не выражал его вслух: а где его место? Если судить по его материальному положению и социальному окружению, в котором он жил, не было сомнений в том, что его место среди тех, кто шел за знаменем голодных людей. Он жил в жалком клоповнике; много раз его обед состоял лишь из кусочка черствого хлеба. Некоторые демонстранты, возможно, были богаче, чем он. Почему же тогда он не был в рядах этих людей? Что удерживало его?
Наверное, он чувствовал, что принадлежит к другому общественному классу. Он был сыном австрийского государственного служащего, чин которого приравнивался к капитану в армии. Он помнил, что его отец был весьма уважаемым таможенным чиновником, перед которым люди снимали шляпы и слово которого имело немалый вес среди его друзей. Его отец не имел абсолютно ничего общего с этими людьми на улице.
Еще больше, чем страх заразиться моральным и политическим упадком правящих классов, был его страх стать пролетарием. Он, несомненно, жил как один из них, но он не хотел становиться им. Возможно, то, что привело его к интенсивной учебе, и было его инстинктивным ощущением того, что только основательное образование может спасти его от скатывания на уровень рабочих масс.
В конце концов, решающим для Адольфа было то, что его не привлекала ни одна из существующих партий или движений. Надо сказать, он часто говорил мне, что считает себя убежденным сторонником Шёнерера, но говорил он это только мне наедине в нашей комнате. Он, голодный, нищий студент, был бы жалкой фигурой в рядах последователей Георга Риттера фон Шёнерера. Движению Шёнерера не хватало более сильных социалистических целей, чтобы полностью захватить Адольфа. Что мог Шёнерер предложить голодным людям, вышедшим на демонстрацию на Рингштрассе? Ничего. При этом социал-демократы не понимали немецкого национализма в Австрии. Интернациональная марксистская основа, на которой развилось это движение, держала широкие народные массы на расстоянии вытянутой руки – то есть в конечном счете самих людей – от участия в принятии решений, которые были так же важны для судьбы народа, как и решение социального вопроса. Среди ведущих политических фигур того времени Адольф больше всего восхищался бургомистром Вены Карлом Луэгером, но от его партии Адольфа отвращала его связь с духовенством, которое постоянно вмешивалось с политические вопросы. Таким образом, в то время Адольф не находил духовного пристанища для своих политических идеалов.
Несмотря на его нежелание вступать в какую-либо партию или организацию, – было одно исключение, о котором я скажу позже, – мне оставалось только ходить с ним по улицам, чтобы видеть, как сильно его интересовала судьба других людей. Город Вена предлагал ему отличные уроки в этом отношении. Например, когда мимо нас шли спешащие домой рабочие, Адольф хватал меня за руку и говорил: «Ты слышал, Густл? Чех!» В другой раз нам встретились несколько каменщиков, которые громко разговаривали по-итальянски и живо жестикулировали. «Вот тебе и немецкая Вена!» – с негодованием воскликнул он.
Это тоже была одна из его часто повторяемых фраз: «немецкая Вена», но Адольф произносил ее с горьким подтекстом. Была ли на самом деле эта Вена, в которую со всех сторон стекались чехи, венгры, хорваты, поляки, итальянцы, словаки и, прежде всего, галицийские евреи, все еще немецким городом? Мой друг видел в положении дел в Вене символ борьбы немцев в империи Габсбургов. Он ненавидел разноязыкий говор на улицах Вены, это «воплощенное кровосмешение», как он позднее назвал его. Он ненавидел это государство, которое разрушило немецкий способ мышления, и столпы, которые подпирали это государство: правящий дом, знать, капиталистов и евреев.