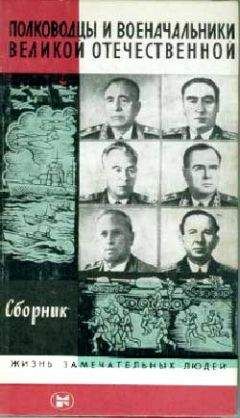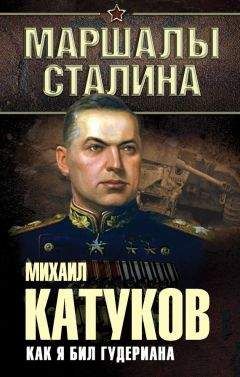Владислав Бахревский - Никон (сборник)
С Никоном, который сам кропил пушки святой водой, государь осмотрел весь наряд. Тут были и новые, и служившие еще Ивану Грозному.
В поход отправлялась стосемнадцатипудовая пищаль Кашпира Ганусова, отлитая в 1565 году. Стенобитная пищаль «Кречет», последняя пушка Андрея Чохова. «Кречет» палил полуторапудовыми ядрами. «Кречет» участвовал и в несчастном походе Шеина под Смоленск, когда почти все самые большие пушки Русского государства были захвачены врагом и увезены за границу. (Две из них до сих пор в Швеции стоят.) Были среди наряда огромные мортиры, стрелявшие ядрами в семь и в десять пудов. Эти пушки назывались верхними, они вели огонь навесной, через стены.
Были и тюфяки для стрельбы дробом, то есть картечью, из них же стреляли и ядрами.
Особенно нравились государю сороки, или органы. Среди наряда было пять сорок крупных, семиствольных, да полдюжины сорок мелких, составленных из ружейных стволов. Показывая на них, Долматов-Карпов сказал с гордостью:
– У этих сорочат шестьдесят один ствол, государь! А вот у сей певуньи, – погладил рукавицею окованный железным листом ящик, – сто пять стволов! Правда, совсем малых, пистолетных, но к такой пушке – не подступись.
Показали государю и большое трехствольное орудие, стрелявшее двухфунтовыми ядрами.
– У царя Ивана Васильевича под Казанью было сто пятьдесят пушек, – сказал государь, не скрывая своего удовольствия, – а у нас их все двести. Великий страх на ворога нагонят. Экий гром-то приключится, если разом все пальнут!
И, еще раз оглядев Большой наряд, вздохнул:
– Мастеров нужно сыскивать! Самые большие пушки отлиты все при государе Иване Васильевиче да при Федоре Иоанновиче.
– И у нас мастера добрые есть, – возразил Долматов-Карпов, увлекая Алексея Михайловича к небольшой, но длинной и необычной пищали. – Гляди, государь! Гляди, каков затвор! Клиновым называется. Такая пищаль в пять раз скорее палит, чем обычная.
– Мастера наградить! – приказал государь. – Пусть еще такие делает. Пусть добре добрую сделает для торжественных государевых наших шествий, чтоб иноземные послы глядели и удивлялись.
– И побаивались! – подсказал Долматов-Карпов.
– И побаивались! – Алексей Михайлович улыбнулся, обнял своего дядьку, расцеловался с ним. – С Богом! Жди меня в Вязьме в мае. Да смотри, чтоб в дороге все было цело и сохранно.
21Патриарх Никон, сопровождаемый Арсеном Греком и новым келейником Тарахом, тоже греком, прошел от Крестовой палаты до наружных дверей, проверяя, всё ли на месте и нет ли где какого-то изъяна.
Вернувшись в Крестовую, патриарх снял домашнюю душегрею и облачился. Его саккос был сплошь расшит жемчугом, на митре большой бриллиантовый крест, а вся вершина митры из таких светлых алмазов, что над головою патриарха горою поднималось белое светоносное полымя.
Патриарх покосился на стоявших справа и слева за креслом Арсена и Тараха. У одного в глазах – испепеляющий черный огонь, у другого глаза огромные, синие: ангел карающий и ангел врачующий.
Сообщили:
– Едут!
Никон, изображая на лице непринужденное радушие, сказал священству, застывшему посреди Крестовой:
– В радость нам! В радость!
Сошел со своего места. И, подойдя к затрепетавшим златоризным священникам, раздвинул рукою первый ряд, выводя вперед затертого молодыми белобородого старца.
– Тебе, отец, старшинство по летам. Что же ты за спинами укрылся? Старость в московских пределах – оберегаема и почитаема.
– У дверей! – донес гонец.
– Вот и слава богу! – сказал, улыбаясь, Никон и стоял со своею улыбкой перед священством, пока до них – тупоголовых! – дошло, что надобно улыбаться.
Улыбнулись, и Никон, довольный, благоуханный, как райская куща, прошел на свое патриаршье место, полыхающее изумрудами. А помост, на котором стояло кресло, крытый золотой парчой, горел как жар.
Никон принимал посольство Войска Запорожского, первое посольство после воссоединения.
Хмельницкий в Москву не поехал.
Сам он сослался на неспокойствие Украины.
Но в Москву не поехал и генеральный писарь Выговский, второе после гетмана лицо в иерархии Войска Запорожского. У него-то причина была, может, и более веская, чем у Хмельницкого. Тайный агент Москвы, Выговский приторговывал государственными секретами без зазрения совести. Для него подарки из Москвы были весьма значительной статьей дохода. Он получал два жалованья. Одно явно – это жалованье всегда было меньшего размера, чем у гетмана, второе – более солидное – тайно. Выговский опасался, что неосторожные московские дьяки могут проговориться о его тайной службе царю при людях гетмана.
Однако в том ли дело? Хмельницкий знал о двойной игре Выговского. Не все, конечно. Но когда-то он сам просил генерального писаря пересылать в Москву, якобы втайне от гетмана, некоторые письма из Варшавы и Крыма.
Не случившиеся, не происшедшие события – богатейший материал для исторических фантазий. На отказе Хмельницкого и Выговского приехать в Москву можно построить и превосходно обосновать добрую дюжину версий, которые, исключая друг друга, всякий раз будут выглядеть совершенно правдиво.
Нет, гадать мы не будем. Свершившегося нельзя поправить, а сердить блюстителей исторических концепций – себе дороже.
Запомним только: царь Алексей подосадовал на казаков. Посольство, составленное из третьих лиц, смазывало торжество. Во главе посольства в Москву приехали войсковой судья Самойло Богданович и переяславский полковник Павел Тетеря да пасынок гетмана Кондратий. Охотников же до поездки в Москву набралось более чем достаточно.
Путивльский воевода, окольничий Степан Гаврилович Пушкин, пропустил с Богдановичем и Тетерей более пятидесяти казаков, а еще семьдесят вернул – и получил от государя суровый нагоняй. Пришлось Пушкину отменить свой негостеприимный приказ.
Посольство поместили в старом Денежном дворе, заново перекрытом, выбеленном, выкрашенном и выскобленном.
Прием у царя состоялся 13 марта в Столовой избе. В знак особой милости про здоровье гетмана Богдана Хмельницкого, про здоровье полковников и про все Войско Запорожское спрашивал не думный дьяк Алмаз Иванов, а сам государь. После же целования царской руки государь пожаловал Самойла и Павла, пригласил их сесть на лавку и уж после этого пожаловал к руке всех прочих запорожских казаков, прибывших в составе посольства.
Никон принимал посольство на следующий день. Стремясь во всем затмить прием у царя, он исходил не из какого-то государственного расчета или тонко задуманной личной игры, но из одного лишь упрямства и желания быть всех милостивее и уж конечно великолепнее.