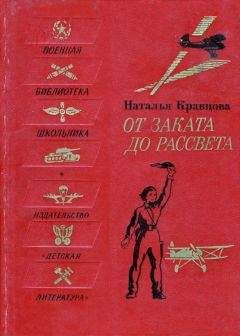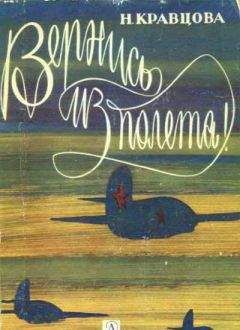Елена Боннэр - Дочки-матери
Когда Эрколе приходил к папе, они обычно говорили по-французски. Если же разговор шел по-русски, то он говорил очень медленно, старательно выговаривая слова. В шахматы он, видимо, не играл. Я не помню его играющим с папой, а папа всех играющих сразу тащил к маленькому столику, где всегда наготове были расставлены шахматы. Иногда Эрколе приходил не к папе, а ко мне. Он занимался русским языком с учительницей, и при подготовке уроков ему временами была нужна моя помощь. В русском я помогала не только ему, но и другим взрослым «люксовцам». И даже иногда папе. И очень этим гордилась. Разумеется, я знала, что Эрколе — один из руководителей итальянской компартии. Но в моем представлении вождь должен был быть не таким. Выше. Горячей. Может быть, даже страстней. Не с такой размеренной, а обязательно пылкой манерой говорить. Я тогда часто ловила себя на мысли о том, что и Ленин тоже не очень тянет на вождя, как мне представляется вождь. И Сталин тоже. Мне хотелось какого-нибудь Спартака, что ли. И когда я встречала в коридоре Джерманетто (почти одновременно с романом Джованьоли я прочла его «Записки цирюльника»), несколько сгорбленного, с тросточкой, хромающего, я начинала горевать, что с вождями все что-то не то. Не с идеями. Боже упаси! Только внешне. Мне хотелось красивого вождя. А Эрколе! И эта его дотошность с уроками. Как будто он боится своей учительницы. Его настоящую фамилию — Тольятти — и о судьбе его семьи (он разошелся с той седой, розовой женщиной) я узнала только в конце 50-х годов.
Миша Черномордик, папин заместитель (эта должность называлась зам.зав. отдела кадров) был коренастым, темноволосым, шумным. И цвет кожи у него вполне оправдывал фамилию. Очень смуглый, даже коричневатый. Егорка поначалу звал его — «черномордый», полагая, что это не фамилия, а прозвище. Его общение с папой в домашних условиях выглядело так, будто они продолжают свои рабочие дела. Какие-то бесконечные бумаги и обсуждения. Мне кажется, что папа привел Мишу в Коминтерн. У них (партийных взрослых) бытовало такое выражение — «привел с собой», когда кто-то, придя на новую работу, брал к себе людей, которых знал раньше. Жена Черномордика Ольга Дмитренко в то время казалась мне очень строгой и даже злой. У них иногда неподолгу жила дочь Миши от первого брака Лида. Я считала, что Оля очень сурово относится к ней — ну как настоящая мачеха. Я не была дружна с Лидой, но из-за Оли временами делала вид, что дружу. Некая демонстрация против «мачехи». Мое отношение к Оле потом изменилось, особенно когда она жила у мамы. Надо было стать взрослой, чтобы понять Олину незащищенность и то, что она по существу, добрый человек.
Наша дача была на две половины. Если стоять к ней лицом, то справа жили мы, а слева семья Миши Черномордика. Там жила мама Оли (все звали ее просто бабушка), их годовалый сын Юрка и племянница Оли Нелка. У нас жила Зорька. Они с Нелкой был ровесницами, и обе ревностно стремились нянчиться с Юркой, который выглядел тогда совсем открыточным младенцем — пухлый, розовый, со светлыми волосиками, что-то смешно лепечущий.
Потом этот малыш пополнил армию «странных сирот 37-го года». После ареста родителей его усыновили мама Нелли и ее муж — профессиональный военный. У мальчика стала другая фамилия, другое отчество и даже, кажется, другое место рождения. В войну его «папа» стал генералом и оставил семью. Юра пошел по его стопам, окончил Суворовское, потом какое-то офицерское училище. Каникулы проводил у «мамы». Там несколько раз встретился с ее то ли подругой, то ли родственницей, приезжающей в отпуск откуда-то из Казахстана и испуганно-влюбленно глядящей на него. Никаких чувств эта женщина у него не вызвала. И память не подсказала картин раннего детства, от которых бы протянулась ниточка к узнаванию, что это его мама. А Оля все годы после восьми лет лагеря работала в какой-то геологической экспедиции и панически боялась, как бы ее существование не нарушило ход жизни сына. Поэтому, хотя уже шел 56-й год, она даже не хотела делать какие-либо шаги к реабилитации. Наша мама с большим трудом сумела в письмах убедить ее уволиться с работы и приехать в Москву. Реабилитировали ее (и посмертно Мишу Черномордика) очень быстро, и она жила у мамы в ожидании получения комнаты. Шла уже весна 57-го. Я приехала из Ленинграда с Таней и Алешкой. Алешку надо было отнимать от груди, и это никак не получалось при мне. А то, что у мамы жила Оля, создавало возможность оставить детей — вдвоем они вполне могли справиться.
В это время Юра ехал с Дальнего Востока в отпуск в Ленинград, и его «мама» или Нелка написали ему, чтобы он остановился у нас. Он заехал. Совсем юный, худощавый, даже худой, некрупный и подтянутый. Очень неразговорчивый и несколько скованный. Он стеснялся. Мы были ему непривычны — весь наш образ жизни с многолюдством, друзьями-приятелями, теснотой и «расползающимся по всей квартире» (выражение Тани) Алешкой.
У Олиной сестры и раньше возникала мысль о необходимости все рассказать Юре, но Оля до реабилитации категорически возражала. Сомневалась она и сейчас. Моя мама то считала, что надо рассказать, то — нет. Категорически «за» была только я. А Егорка, который только что демобилизовался и тренировал боксеров в еще строящихся Лужниках, говорил мне:
«Нечего соваться - без тебя разберутся». Он же сказал нам, что Юрка, который был с ним контактной, чем с нами, хочет оставить армию и пойти учиться. Это были хрущевские времена сокращения армии, так что такой план был вполне реален. Со спорами и криками в отсутствие Юрки все же решили все ему рассказать. Роль хирурга досталась мне.
Мы стояли в темной маминой комнате у окна. Там в глубине вырисовывались силуэты зданий, светились чьи-то окна, пробегали блики от машин, идущих по мосту. Я ровным голосом, без эмоций (Танька в детстве называла его «врачебный») рассказывала Юрке его собственную историю. Это было трудно. А Юра подчеркнуто не смотрел на меня и молчал в течение моего рассказа, долгого, с трудными паузами. Сквозь его молчание. в нервном бесконечном зажигании спичек, частом пр-куривании, когда по дрожанию огонька видно, как передается дрожь рук — я видела все это отраженно в темном стекле окна, а на него не смотрела — ощущалось его потрясение. И эта странная женщина-мать. И странная чужая фамилия Черномордик. И то, что он еврей, ну пусть наполовину, только по отцу. И что у него есть другая — не Нелка — сестра.
Чтобы закончить рассказ о Юрке (я истории таких детей, а их у меня несколько, называю «детские») — я ничего не знаю о его сегодняшней жизни. Раньше мы постоянно общались. Он кончил геологоразведочный, работал в Союзе и за границей. Завел семью. Оля стала бабушкой. Но с приходом в дом Андрея они как-то исчезли с нашего горизонта. Да, все мамины подружки исчезли. Это точно — «пуганая ворона куста боится», а ведь все они «пуганые». И к концу маминой жизни остались только Фаня, Аннет, да еще две или три польские «старые большевички», из тех, кто прошел наши лагеря.