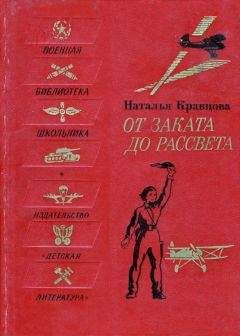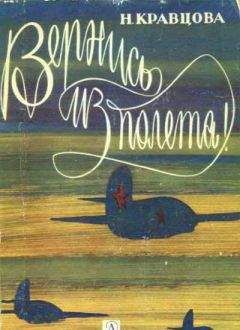Елена Боннэр - Дочки-матери
Господи, как удивительна память! Вчера я писала о друзьях мамы и папы. Потом в ванной слове возвращалась мыслью к написанному. Почему Маня и Алеша последние два года выглядели более угнетенными, чем другие? Особенно Маня? Почему у нее стали такие тоскующие глаза? И внезапно вспомнила! Манин брат, Иван Каспаров, был секретарем Ленинградского горкома партии. Его арестовали почти сразу после гибели Кирова. Вот и встало все на свои места! Просто в их семью 37-й пришел чуть раньше.
И уже пошли какие-то воспоминания о семье Вани Каспарова.
Его самого я почти не помню. Но хорошо помню жену Геню, маму Татьяну Сергеевну и дочь Таню, крупную, яркую, поразительно красивую девочку. После 37-го я бывала у них в Ленинграде и не то чтобы дружила, но приятельствовала с Таней. Несколько раз я приводила ее в нашу школу на вечера, и, кажется, все мальчики сразу на весь вечер в нее влюблялись. Судьба их семьи более типична для тех, кого »меч правосудия» настиг в первой половине тридцатых годов. В лагере Ваня вернулся к своей первой, допартийной профессии. По образованию он был врач. Выжил. И возвратился. Геня — тоже врач, не была арестована и работала в одном из ленинградских родильных домов. А в 37-м — 38-м обычно было — мужу 10 лет без права переписки, что фактически означало расстрел, и жене 8 лет как ЧСИР, ну, в лучшем случае — жене 5 лет. Все по той же «дамской» статье — член семьи изменника родины.
В конце двадцатых или в начале тридцатых Ваня работал в Москве. Они жили в Доме правительства, и нас с Егоркой папа однажды туда привез, когда мама болела, а няня была в каком-то запоре. Мы с Таней собрались, гулять, и нам доверили взять с собой Егорку, которому было чуть больше трех лет. Мы пошли на набережную. Там у причала стояли несколько барж с песком и досками. К одной вели сходни. Рабочих, которые достраивали какую-то часть этого дома-города, на набережной видно не было. День был теплый. Сияли купола храма. А мы решили поиграть в песке. По сходням, таща Егорку, перебрались на баржу и возились в песке часа полтора. Потом вернулись на берег. И тут я увидела, что баржа, тихо покачиваясь, отплывает от причала. А там на песочке, таком чистом, желтеньком, калачиком свернувшись, спит Егорка. Перебраться к нему на баржу уже не было возможности. Меня обуял ужас. Я закричала. От моего крика Егорка проснулся, подошел к борту баржи и, довольный своим плаванием, стал махать нам рукой. Я кричала ему, чтобы он отошел, бежала параллельно барже по берегу и страшно кричала. А Танька сначала совсем не испугалась и воспринимала все это как игру. Она прыгала и смеялась. Только мой крик, смешанный с плачем, заставил ее наконец что-то понять. Она тоже стала истошно вопить — то ли Егорке, то ли звать на помощь. Наконец, на наши крики обратили внимание какие-то мужики, ладившие что-то на мостовой, и подбежали к нам. Они зацепили баржу, подтянули ее к бережку — каменной набережной тогда еще не было — и сняли Егорку с его первого в жизни «корабля». Я схватила его и, держа поперек живота, потому что взять на руки у меня не хватало сил, потащила домой к Каспаровым. Потом я позвонила папе, чтобы он скорей взял нас домой. Я ненавидела себя и ругала за то, что забыла Егорку на барже.
Я забыла брата! Танька была ни при чем. Но оставаться в гостях у нее мне не хотелось. Потом я еще не раз приходила к ним с папой — это же был дом его друзей. Но память об этом случае почему-то всегда осложняла мое отношение к Тане.
После возвращения из лагеря мама однажды встречалась с Ваней и Геней где-то в кафе. Дома у нас или у них встретиться боялись. Мама тайно приехала в Ленинград из Луги, Ваня еще откуда-то. А через несколько дней к Ване пришел милиционер, и ему было велено уезжать из Ленинграда к месту прописки. Геня почему-то винила в этом маму. Как будто она донесла на Ваню, что ли? Какая-то чушь, на которую мама смертельно обиделась.
К этому еще присоединилась обида на меня. Таня то ли перед войной, то ли в ее начале вышла замуж за врача, который работал где-то в сельской или полусельской местности. Послевоенное время было голодным. Кто-то рассказал, что она завела корову и огород. И я сказала, что если б не готовиться в институт, то я бы тоже не прочь завести огород. Это было передано Каспаровым так. что я вроде смеюсь над огородом и воображаю, потому что собираюсь учиться, а у Тани судьба сложилась так. что она не получила высшего образования. Тоже чепуха какая-то. Но мы больше никогда не общались с Маней Каспаровой — папиным ближайшим другом.
Манин муж Алеша был для меня каким-то образцом. Невысокий, стройный, элегантный, умный и добрый, очень сдержанный человек. Он составлял мне списки книг, которые советовал прочесть. Часто давал книги из своей библиотеки. Когда я возвращала их ему, он всегда находил время поговорить о прочитанном. Это были беседы не формальные и какие-то не ортодоксальные, что ли, с точки зрения всей их партийной компании, более глубокие, чем с другими папиными друзьями. Может, не столь сердечные, как с Левой Алиным, но более серьезные. Правда, я была на два-три года старше, чем до ареста Левы Алина. Я несколько раз в предвоенные годы говорила об Алеше с Таней Каспаровой. И чувствовала, что она как-то ревниво относится к рассказу о моей дружбе с ним.
А теперь у меня сын — Алеша. И у Тани Каспаровой — тоже Алеша, только лет на десять старше моего.
Кроме друзей, которых я считала «настоящими», к папе приходили некоторые из сослуживцев. Эрколе, Вальтер, многие поляки, Черномордик, Благоева и другие болгары, Ибаррури. Часто бывал какой-то очень красивый палестинец, фамилию которого не помню. Мне казалось, что он немного ухаживает за мамой. Иногда заходил наш сосед из № 8 индонезиец и его русская жена. Вообще-то она была еврейка, но в «Люксе» всех советских называли русскими. Она была из немногих люксов-ских женщин, с которыми у мамы были какие-то отношения. А их маленькая дочка Сунарка, прелестная смесь европейской и азиатской рас, торчала у нас иногда целыми днями.
Сунарка жила справа от нас. А слева в № 10 жили Эрколе. Муж, жена, сын Альдо. Альдошка был не очень контактный, редко выходил в коридор, кажется, ни с кем в доме не дружил. И я не запомнила в нем ничего плохого и ничего хорошего. Его мама была приветливой, веселой, какой-то очень милой женщиной с совсем седыми волосами и молодым розовым лицом. Она плохо говорила по-русски и всегда первой смеялась над своими ошибками.
Когда Эрколе приходил к папе, они обычно говорили по-французски. Если же разговор шел по-русски, то он говорил очень медленно, старательно выговаривая слова. В шахматы он, видимо, не играл. Я не помню его играющим с папой, а папа всех играющих сразу тащил к маленькому столику, где всегда наготове были расставлены шахматы. Иногда Эрколе приходил не к папе, а ко мне. Он занимался русским языком с учительницей, и при подготовке уроков ему временами была нужна моя помощь. В русском я помогала не только ему, но и другим взрослым «люксовцам». И даже иногда папе. И очень этим гордилась. Разумеется, я знала, что Эрколе — один из руководителей итальянской компартии. Но в моем представлении вождь должен был быть не таким. Выше. Горячей. Может быть, даже страстней. Не с такой размеренной, а обязательно пылкой манерой говорить. Я тогда часто ловила себя на мысли о том, что и Ленин тоже не очень тянет на вождя, как мне представляется вождь. И Сталин тоже. Мне хотелось какого-нибудь Спартака, что ли. И когда я встречала в коридоре Джерманетто (почти одновременно с романом Джованьоли я прочла его «Записки цирюльника»), несколько сгорбленного, с тросточкой, хромающего, я начинала горевать, что с вождями все что-то не то. Не с идеями. Боже упаси! Только внешне. Мне хотелось красивого вождя. А Эрколе! И эта его дотошность с уроками. Как будто он боится своей учительницы. Его настоящую фамилию — Тольятти — и о судьбе его семьи (он разошелся с той седой, розовой женщиной) я узнала только в конце 50-х годов.