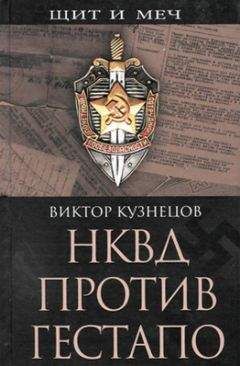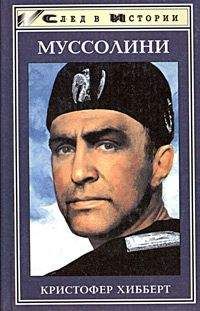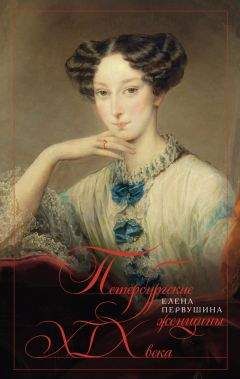Яков Гордин - Три войны Бенито Хуареса
Власть разваливалась. Офицеры отводили глаза, встречая взгляд своего каудильо. После того как Ортега при Силао отпустил две тысячи пленных, дезертирство стало бедствием…
Гонсалес Ортега — после отставки Дегольядо командующий конституционными армиями — заболел. 17 октября генерал Игнасио Сарагоса принял командование.
30 октября он взял Гвадалахару.
Освобожденный Мирамоном Маркес с батальонами ветеранов шел деблокировать город. Он опоздал.
Сарагоса выступил ему навстречу, отсек от подкреплений и методически, серией последовательных ударов с разных направлений разгромил.
В начале ноября генерал Сарагоса во главе объединенной либеральной армии двинулся на Мехико.
Порфирио Диас очистил от реакционеров Оахаку и угрожал столице с юга…
Мирамон понимал, что война проиграна. Но ярость, бушевавшая в нем, обида на тех, кто отступился от него, кто не поддержал его с той же страстью, с которой он сам готов был драться за свою идею, заставляла дона Мигеля искать новых и новых средств.
Он продал с молотка имущество столичных учебных заведений. Это были гроши.
Он вошел в сопровождении нескольких офицеров в помещение английского посольства, уже оставленного сэром Матью, и конфисковал семьсот тысяч песо, составлявших проценты по мексиканскому долгу Великобритании. Матью объявил его грабителем.
Армия Сарагосы приближалась. Английских денег не хватило для снаряжения новых батальонов — слишком много ветеранов полегло и разбежалось после Силао, слишком много артиллерии было потеряно за последний год.
Тогда генерал-президент обратился к банкиру Жеккеру, швейцарцу, принявшему недавно французское подданство…
ЗАЩИТНИКИ СВОБОДЫ ВЕРНУЛИСЬ К СВОИМ ОЧАГАМ
В 10 часов утра 22 декабря 1860 года генерал Мирамон понял, что он проиграл последнее сражение войны.
Начиная бой, он бросил две трети сил на левый фланг противника, рассчитывая опрокинуть его и выйти в тыл дивизиям центра. Но противник располагал слишком мощными резервами.
Гонсалес Ортега принял командование за сутки до начала боя. Он еще не совсем оправился от болезни, но уверенность, что в решающем бою должен командовать он, помогала ему преодолевать слабость. Иногда только он отирал со лба внезапный обильный пот и тяжело опирался на луку седла. Но по мере того как бой разгорался, Ортега все более забывал о своем недомогании.
Холмы Сан-Мигель-Кальпулальпана, у подножия которых шло сражение, были в его руках, и с высоты он видел малейшее движение вражеских войск. Он понял замысел Мирамона еще до того, как атакующие батальоны вломились в ряды дивизии Мичоакана. Он двинул ей на помощь дивизии Халиско и Сан-Луис-Потоси и наращивал мощь левого фланга до тех пор, пока атакующие не побежали. Тогда дивизии Ортеги, следуя за ними по пятам, навалились на правый фланг реакционеров.
Гигантская дуга, вздымающая тучи багровой пыли, озаряемая вспышками выстрелов, медленно двигалась по равнине. Правый фланг Мирамона, отчаянно отбиваясь, загибался и загибался, пока дивизии Ортеги не охватили с тыла еще уцелевшие батальоны.
Когда драгунские эскадроны вместо того, чтобы выполнить приказ своего каудильо и внезапной атакой попытаться переломить судьбу, с криками «Вива, Ортега!», расстроив ряды, побросав знамена, поскакали сдаваться, тогда генерал Мирамон, чувствуя тяжелую пустоту в груди, с сухим, криво сжатым ртом, полузакрыв безжизненные глаза, повернул коня от поля боя и пришпорил его…
Генерал Хесус Гонсалес Ортега смотрел с высоты холма на бесформенное кишение, сменившее стройные линии боевых порядков, на расползшиеся массы пленных и тех, кто еще сдавал оружие, генерал Ортега видел перед собой новую Мексику, Мексику, принадлежащую ему, победителю при Кальпулальпане, и видел ее далеко — до столицы, видел дороги, по которым пройдут на юг, в Мехико, его дивизии, его солдаты.
Генерал Сарагоса, начальник штаба армии, придержал свою невысокую гнедую кобылу рядом с черным блестящим жеребцом Ортеги.
— Я отправил трех курьеров в Веракрус, — негромко сказал он, и его круглое лицо было озабоченным. — Сеньор Хуарес должен первым оповестить страну.
Руки Ортеги сжались на поводьях. Но слабость опять охватила его, и он молча кивнул…
В 9 часов утра 11 января 1861 года президент Мексиканской республики дон Бенито Хуарес, одетый в строгий черный костюм, в идеально белой рубашке, въехал в столицу республики.
Он ехал в четырехместной старой черной карете.
Три года назад он ушел отсюда ночью пешком, в крестьянской одежде, спал в полях, ел с погонщиками мулов. Теперь он вернулся победителем.
Он смотрел на толпу, бушующую на тротуарах, на шпалеры солдат, восторженно разглядывающих того, за кого воевали они три года. Многие из них впервые видели этого человека, о котором они знали — пока Хуарес в Веракрусе и говорит, что сдаваться нельзя, пока он готовит и издает новые мудрые законы, отменяющие церковную десятину, наделяющие всех бедных землей, — пока Хуарес говорит: «Идите в бой!», — надо идти и сражаться, и жизнь изменится. Для уцелевших.
Они уцелели. Жизнь будет прекрасна. Вива, Хуарес!
Вива, Хуарес! Вива, наш маленький индеец, понимающий наши души и знающий наши беды! Вива, Хуарес!
Хуарес не мог и сам себе сказать, чего сейчас больше в его душе: радости или горечи. Он смотрел на ликующие лица солдат — изможденные, беззаботные, доверчивые — и знал, сколько разочарований ждет их завтра, когда пройдет восторг победы.
Кто будет виноват в этом?
У них есть справедливые законы, у них есть правительство — искреннее и честное. У них есть, наконец, желание быть свободными и счастливыми.
И есть страшное бремя, тяготеющее над страной, тянущееся десятилетия, усугубленное войной. Есть лабиринт международных интересов и звериная игра самолюбий и честолюбий.
И есть коварный, как дремлющая змея, враг — случай…
Он смотрел на лица солдат — кто из них был во дворце в Гвадалахаре, когда его собирались расстрелять? Как перемешал всех водоворот революции…
Великолепный Ортега в золоченом мундире скакал рядом с каретой. Горизонтально торчащие острые усы, гордая вскинутая бровь. Воплощение военной удачи…
Хуарес вышел из кареты перед входом в президентский дворец. Медленно поднялся по лестнице. Прежде чем пойти в кабинет, он заглянул в маленькую комнату, где по приказу Комонфорта его держали с 17 декабря пятьдесят седьмого года по 11 января пятьдесят восьмого года. Тот же стол, тот же диван. Быть может, с тех пор туда никто и не заходил.
Первое заседание правительства он назначил на 9 часов вечера.