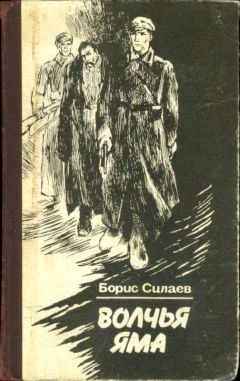Вера Фигнер - После Шлиссельбурга
Азеф опять пожимает плечами. Он волнуется.
Он говорит:
— Дайте же мне возможность защищаться.
Чернов. — Мы спрашиваем и ждем ответа. Зачем ты ездил в Берлин?
Азеф. — Я желал остаться один. Я устал. Я хотел отдохнуть.
Чернов. — Видел ли ты в Берлине кого-либо из партийных людей?
Азеф. — Нет.
Чернов. — А из непартийных?
Азеф. — Я не желаю на этот вопрос отвечать.
Чернов. — Почему?
Азеф. — Он не относится к делу.
Чернов. — Об этом судить не тебе.
Азеф. — Я член Центрального Комитета и не вижу, чтобы все здесь присутствующие были ими.
Я. — Мы действуем от имени партии.
Чернов. — Значит, ты отказываешься отвечать на этот вопрос?
Азеф. — Нет. Я скажу: я не видал никого.
Чернов. — Почему ты переселился в «Керчь»?
Азеф. — В «Керчи» дешевле.
Чернов. — Так ты переехал из-за дешевизны?
Азеф. — Была и еще причина.
Чернов. — Какая?
Азеф. — Этот вопрос тоже не относится к делу.
Чернов. — Ты не желаешь отвечать?
Азеф. — Хорошо. Запишите: я переехал только из-за дешевизны.
Чернов. — В какой комнате ты жил в «Керчи»?
Азеф. — В № 3.
Чернов. — Опиши подробно этот номер.
Азеф. — Кровать, налево от входа, покрыта белым покрывалом, с периною, стол круглый, покрыт плюшевой скатертью, около стола два кресла темно-зеленого плюша, у умывальника зеркало, ковер на полу темного цвета.
Чернов. — Кого ты видел в «Керчи»?
Азеф. — Что за вопрос?.. Ну, хозяина, посыльного, горничную, лакея…
Я. — Скажи, как ты понял мои слова, когда я говорил тебе, что некто, имени которого я назвать не могу, сказал Бурцеву, что ты служишь в полиции, и разрешил сообщить это мне. Понял ты так, что именно некто разрешил мне сказать, или так, что Бурцев решился на это самостоятельно?
Азеф. — Конечно, я понял так, что некто разрешил сказать только тебе.
Чернов. — Некто — Лопухин. Он не называл фамилии Савинкова. Он позволил Бурцеву сказать одному революционеру, по его, Бурцева, выбору. Бурцев выбрал Павла Ивановича (меня).
Азеф. — Ну?
Чернов. — Ну, а ты вошел к Лопухину со словами: «Вы разрешили сказать Савинкову».
Азеф. — Я не понимаю… Вы должны производить расследование серьезно.
Чернов. — Прошу выслушать далее. Лопухин не назвал фамилии Савинкова. Ты понял со слов Павла Ивановича, что он эту фамилию назвал. Павел Иванович такого толкования в свои слова вложить не мог, ибо не слышал его от Бурцева… Значит…
Азеф бледнеет. Но он говорит еще спокойно.
— Ну, Бурцев мог сказать Бакаю. Бакай понял неверно и сказал Лопухину… Впрочем, я ничего не знаю.
Чернов. — Бурцев не говорил Бакаю, и Бакай не говорил Лопухину. Как объяснить, что Лопухин на расстоянии угадал, что ты понял Павла Ивановича так, как никто понять не мог, — что он, Лопухин, назвал фамилию Савинкова?
Азеф волнуется.
— Что за вздор. Я ничего понять не могу.
Чернов. — Тут нечего понимать. Ты сказал Лопухину: вы позволили сообщить Савинкову, сообщите тому же Савинкову, что вы ошиблись.
Азеф встает из-за стола. Он в волнении ходит по комнате.
Чернов. — Мы предлагаем тебе условие, — расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью. Дегаев и сейчас живет в Америке.
Азеф продолжает ходить взад и вперед. Он курит папиросу за папиросой.
Чернов. — Принять предложение в твоих интересах.
Азеф не отвечает. Молчание.
Чернов. — Мы ждем ответа.
Азеф останавливается перед Черновым. Он говорит, овладев собой:
— Да… Я никогда ни в каких сношениях с полицией не состоял и не состою.
Чернов. — Как же ты объясняешь себе все обвинения? Интрига полиции?
Азеф. — Не знаю.
Чернов. — Ты не желаешь рассказать о своих сношениях?
Азеф. — Я в сношениях не состоял.
Чернов. — Ты ничего не желаешь прибавить к своим ответам?
Азеф. — Нет. Ничего
Чернов. — Мы дадим тебе срок подумать.
Азеф ходит по комнате. Он опять останавливается против Чернова и смотрит ему прямо в глаза. Он говорит дрожащим голосом:
— Виктор. Мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь… Как мог ты ко мне прийти с таким… с таким гадким подозрением?
Чернов говорит сухо:
— Я пришел. Значит, я обязан был прийти.
Я. — Мы уходим. Ты ничего не имеешь прибавить?
Азеф. — Нет.
Чернов. — Мы даем тебе срок: завтра до 12 часов. Ты можешь обдумать наше предложение.
Азеф. — Мне нечего думать.
Я. — Завтра в 12 часов мы будем считать себя свободными от всяких обязательств.
Азеф. — Мне нечего думать.
Мы ушли».
На другой день утром меня позвали на какую-то квартиру; там я застала человек 10–12, неподвижно сидящих на стульях вдоль стены. Это были все знакомые лица; вероятно, те, которые были на совещании, своим постановлением взявшие на свою ответственность отнятие жизни провокатора.
Тут Марк и рассказал мне о происшедшем в квартире Азефа Он сказал, что после допроса те, которые делали его, ушли.
— Как ушли? Они не убили его?! И не оставили стражи?!
— Они поставили Азефу ультиматум: раскрыть все известное ему об охранке, и тогда жизнь его будет пощажена, и сроком признания назначили 12 часов сегодняшнего дня, когда он должен явиться к Виктору Михайловичу на дачу под Парижем. Теперь мы ждем Виктора, который должен приехать с известиями.
И мы ждали… Ждали напрасно: Виктор Михайлович не приехал, потому что и Азеф к нему не приехал…
В великом смущении я спрашивала Натансона:
— Но ведь вы совершенно нарушили общее решение тех, кого созывали?!
— Если Азеф был бы убит, всех русских выслали бы из Парижа, — было ответом Натансона.
— Но как же могли вы не поставить кого-нибудь сторожить его?
— Это сделают другие. И мне кажется, он сказал, что эти «другие» взяли это на себя.
Между тем, на себя этого никто не брал…
После долгого томления в ожидании Виктора Михайловича с квартиры все разошлись, обманутые, униженные и бессильные…
В час ночи, как впоследствии, поверив, наконец, в предательство своего мужа, жена его рассказывала нам, она, придя домой, застала его быстро укладывающим чемодан и по его просьбе проводила его на вокзал. По пути он выказывал боязнь перед каждым темным углом; в испуге бросался в стороны от фонарных столбов… и т. п. И уехал, уехал!
Через несколько дней Азеф прислал членам Ц. К. письмо, из всех наглых писем, когда-либо писанных человеческой рукой, самое наглое. Оно приведено целиком у Савинкова в «Записках террориста». Рука не поднимается переписать его. В памяти же от прочитанного мне в свое время осталось: он объявлял себя невиновным. Объявлял, что грязь, которою члены Ц. К. забросали его, его, вознесшего партию на небывалую высоту, падет на них самих…