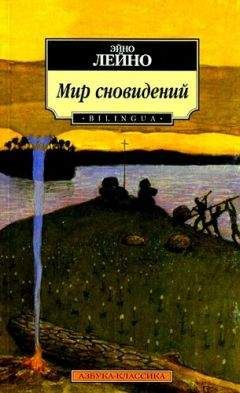Черубина де Габриак - Исповедь
Точно умираю, или слепну. Макс, во мне нет радости. Я мучаю и тебя, и себя очень, я не понимаю, чем.
Это очень нехорошо — эгоизм, но мне от него некуда уйти.
Тебе не скучно со мной?
Макс, у меня слова не те, читай за ними, глубже. Пожалуйста.
Ты обещал писать стихи, мне письмо в стихах — не забудь. Я жду. Я всех слов жду. Так голодна я. А что Ал<ександра> Мих<айловна>[182]? Что Феодосия?
Мне нужно твердости.
Макс, любимый мой!
Лиля.
1 марта <1910>
Твои письма дают радость и тоску. Радость, п<отому> ч<то> ты мне дорог, и твой покой тоже, тоску, п<отому> ч<то> все ясней, что нет к тебе возврата[183]. Но это без боли, Макс, и не нужно, чтоб у тебя была; п<отому> ч<то> я не дальше, я, м<ожет> б<ыть>, гораздо ближе подойду к тебе, но только ты не путь мой. А где путь мой <—> не знаю.
Твои «весенние» стихи я плохо чувствую, а сегодняшние мне близки, особенно «цвета роз и меда»[184]. А в первом мне не нравится, что фразы разрезаны, конец на другой строчке, чем начало; потом нехорошо, что лик — жен<ского> рода (хотя, м<ожет> б<ыть>, это по Далю?)[185].
А предпоследнее стихотворение о «семисвечнике» мне очень близко, но выбрось последние 4 строчки; жабры, плевы <—> все это никуда; плохо и то, что семисвечник обращается в канделябр, почему не в люстру или лампу[186]?
Помочь тебе в стихах, что я могу — я молчу. Я написала два-три прескверных стишка, которые даже не шлю.
Аморю и Дикса случайно не видела 2 недели, когда Дикс был занят. Теперь вижу опять. Аморя хочет ранней весной уехать из П<етербур>га и не возвращаться в него зимой. Это очень грустно.
Моравскую я не хочу видеть, п<отому> ч<то> она мне ни к чему; что я найду в чужой, если я еще не нашла самой себя?
Лето я, наверное, проведу в Петербурге.
Целую тебя. Пиши. О себе!
Лиля.
8 VI. <1>912. 5 л<иния>, д. 66, кв. 34 СПБ
Дорогой Макс, спасибо за книгу, очень, больше ничего не надо мне, — спасибо. Fabre d’Olivet[187] мне очень нужен, отчаивалась найти. Спасибо, милый.
И за все, что в письме, Макс, благодарю тебя. Мне не за что прощать тебе, нечего. Разве ты обманывал и разве не сгорела бы я уже, если б осталась. Сначала так тосковала по тебе, по твоему, но знала, встречусь, — и опять, как в бездну.
Те сокровища, что в душе лежали, не могли пробиться наружу и не пробились бы никогда, на том пути, твоем, любимом, но на который уже не было сил. Но ты, далекий, всегда в сердце моем.
Навсегда из жизни моей ушло искусство, как личное.
Внешне иной стала я, безуветной и угасшей, так было эти почти три года. И томилась все время, но вот с этого года обрела я мой путь и вижу, что мой он[188]. Узкий-узкий, трудный-трудный, но весь в пламени.
И личного нет. И не будет. Пиши о себе, Макс, что ты пишешь? Статьи? А прозу не начал писать? Есть ли около тебя ласка?
Бор<иса> Алексеевича вижу часто, и все ближе он; внешне все тот же он, но душою уже не с нами. Он очень болен[189].
Воля[190] на полгода уехал в Хиву, на изыскания, он — моя самая большая радость.
Теперь до 20-ых чисел июля одна я здесь. Занимаюсь много.
А с 20-го октября уеду в Мюнхен, с Аморей поедем[191].
Если можешь, пиши, родной. Привет Елене Оттоб<альдовне> и Алекс<андре> Мих<айловне>.
Лиля.
28. X. <19>13. СПБ
Спасибо и за письмо, и за стихи, милый Макс! Сегодня Б<орис> А<лексеевич> отправит назад Lunaria[192], стихи же можно оставить? Статью о Репине получила[193]. Где купить Решали[194], не знаю, — я его достала случайно; постарайся выписать его через какой-нибудь магазин; я боюсь тебя задержать — чувствую себя плохо — выхожу редко, а попросить мне некого. Ты уж прости. Ск<олько> стоит, не знаю, по виду рубля два.
Ты мне непременно напиши, что тебе ответит Трапезников[195], если он откажет, хочешь, я спрошу сама о тебе Марию Як<овлевну>[196] на Рождестве и постараюсь все устроить.
Мне Lunaria не понравилась. М<ожет> б<ыть>, никогда я не любила стихи так мучительно, к<а>к теперь, может б<ыть>, никогда я так не искала их жадно. Отдельные строчки великолепны, в венке очень много мастерства… но это все то же. Это камея. Устала я от них. Я хочу новой формы, свободной, к<а>к песня, и нового импульса в содержании. Не музея, но жизни.
Я ни <у> одного поэта не нахожу этого. Так сложно то, чего я хочу от стихов, но не вижу таких, каких хочу, а идут, идут в совсем другую сторону. Ты не сердись, Макс, и не смейся — а иногда я плачу от того, что нет хороших стихов, нет, не хороших, я хочу великолепных!
Не обращай внимания на мое «читательское» мнение!
Будь здоров, милый,
Лиля.
21 июля. 1916 г<од>. СПБ
Может быть, и хорошо, милый Макс, что ты не получил моего письма от 20 VI. Я уезжала тогда на 3 недели и была из них 10 дней в имении у Какангела[197].
У нее было очень хорошо; дубы, липы и мокрые от непрерывных гроз поля.
Я много думала о тебе. Много говорила о тебе с Какангелом.
Может быть, лучше, что ты не получил моего письма.
Спасибо за твои письма.
Я ведь, в сущности, только и хотела знать, кто я в твоей жизни.
И для меня радостно, что в твоей жизни я «есть», а не «была».
Это я хотела знать, потому что грустно быть милым покойником, и еще печальнее для живущего, когда покойники оживают.
Что делать с ними живому, если он вежлив?
Вот, Макс, за что я благодарю Тебя и люблю Тебя. Но я знаю границы, Макс, и слишком вежливым я не заставлю тебя быть. В тот месяц, который ты проведешь у нас[198], я попрошу, вероятно, только один вечер.
Как прекрасно жить, Макс, как, несмотря на боль, прекрасно жить!
А как же твоя книга о готике[199]? Ведь не бросил же ты ее? Почему вдруг Суриков[200]?
Макс, когда выйдет «Аксель»[201], не забудь прислать мне; мне как-то трудно купить эту книгу.
J’ai trop репсе pour daigner agir[202].
Я прочла книгу Амари[203], какие трогательные, капающие слова! Как поэт — он молод?