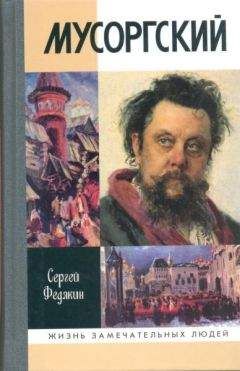Скрябин - Федякин Сергей Романович
Говорил ли Стасов с членами совета? Или издательство само решило, что терять такого композитора ему ни к чему? В сентябре к Скрябину приходит письмо от Лядова. Самый близкий ему человек из Попечительного совета делает шаг в сторону примирения.
«Все-таки дорогой и милый Александр Николаевич!
Ну за что ты с нами поссорился? Ведь мы на тебя смотрели, как на самого близкого человека в любимом деле нашего покойного друга (и в особенности — твоего и моего) М. П. Беляева.
Нам и в голову не могло прийти, что предложенный тебе гонорар в 50 рублей за очень маленькие твои пьески может тебя оскорбить. Если и ты на дело Беляева можешь смотреть, как на дело для тебя совсем чужое, то что же ждать от других. Я думаю, что для тебя это не секрет, что мы не очень-то богаты, что нас рвут на части разные композиторы и что часто мы должны отказывать им за неимением денег. Мы сами себе урезываем гонорар елико возможно».
Лядовское письмо готовит почву: издательство желает получить новые сочинения Скрябина. Но все-таки, делая шаг навстречу, нельзя признаться в своей ошибке. И Анатолий Константинович, сам уверенный в чрезмерной «строптивости» Скрябина, идет на мировую, стараясь показать, что совет не делал в отношении композитора ничего предосудительного.
«Зная тебя, я не могу понять, как ты мог порвать с нами из-за денег. Я понимаю, что теперь тебе, как человеку неправому в этой глупой истории, трудно пойти первому на примирение, ну а нам — это даже приятно».
Последние слова в письме — уже о другом. Это личное, живое, — вздох обо всем замечательном, что проходит безвозвратно: «Ах, как бы я хотел с тобою посидеть и вспомнить прошлое…»
Скрябин откликнулся сразу, уже из Амстердама. Его главное чувство — словно свалилась гора с плеч:
«…Ты не можешь себе представить, как я рад, что все, что было, — лишь недоразумение. Мне самому наш разрыв казался таким чудовищным фактом. Конечно, все будет предано забвению, но я не могу не высказать тебе моего огорчения по поводу несправедливого твоего суждения обо мне.
Хотя дело и шло о гонораре, но ясно, что не деньги играли роль в наших отношениях, а обида. Хотя вещи мои и были небольшие, но ведь я в течение 14 лет получал за вещи еще меньшего размера по 100 рублей; как же я мог себе объяснить такую перемену в оценке моих произведений, которые становятся, во всяком случае, не хуже. Ведь мне ни слова не было сказано относительно того, что денежные дела фирмы не блестящи; наоборот, я думал, что Беляевская фирма самая солидная изо всех издательских фирм. Если бы с назначением гонорара ты в частном письме высказал мне те соображения, которые руководили вами, то, наверное, я бы не обиделся. Если бы я не нуждался, как нуждаюсь теперь вследствие осложнения моих семейных обстоятельств, я бы вообще довольствовался самым малым. Одним словом, ты видишь, что все было недоразумением и да не будет более никогда произнесено ни одного слова об этом печальном эпизоде. Как! Неужели опять Анатолий Константинович?! Опять милый Анатолий Константинович?! Да, да, конечно, иначе и быть не могло. У меня ни одной минуты не было того чувства, что все кончено. Не могут отношения, какими были наши в течение 10 лет, так неестественно порваться. Мне бесконечно хотелось бы повидать тебя и расспросить и рассказать обо всем, что приключилось за эти 3–4 года».
Бегло бросив несколько слов о семье, о дочке, которую они с Татьяной Федоровной собираются оставить в Амстердаме, о пережитой нужде («были моменты отчаянные»), он говорит и о предстоящих выступлениях.
Гастроли ждут его давно: деньги нужны, без концертов своего положения не поправить. Поначалу ему виделось турне по странам Европы. Но обстоятельства подтолкнули его совсем в иную сторону: его ждала Америка.
* * *
Сюжет с этими гастролями с самого начала был фантастичен. Поначалу эта фантастика была окрашена в мрачноватые краски: вырезки из русской газеты Скрябину передал смертельно больной отец Татьяны Федоровны еще в Женеве. Объявление не могло не обратить внимания: Модест Альтшулер из Америки просил для исполнения в «русских концертах» сочинения русских композиторов. Тот самый Модест Альтшулер, виолончелист, а теперь дирижер Русского симфонического оркестра в Нью-Йорке, с которым они когда-то встречались в консерватории! Америка была для русских еще терра инкогнита. Ее знали немногие. Но миф о стране молодой, богатой и процветающей если и не будоражил, то все же действовал на умы. Скрябин списался с Альтшулером. Условия были довольно скромные, но все зависело от успеха выступлений. Скрябину померещилось, что именно Америка позволит поправить совсем никудышные финансовые дела. Сомнение в исходе дела было, в письме Лядову он признается: дела настолько расстроились, что за Америку он ухватился как за «отчаянное средство». Альтшулер, оркестр которого пока был еще «бедноват», ухватился за Скрябина. В Нью-Йорке уже можно было прочесть рекламу, нелепость которой могла бы композитора и раздосадовать:
«Специальное приглашение. Русское симфоническое общество в Нью-Йорке имеет честь сообщить о предстоящем приезде Александра Скрябина, знаменитого русского композитора-пианиста, который посетит эту страну как гость Общества и выступит солистом в концерте 20 декабря. Скрябин своими произведениями заслужил название «русского Шопена».
Америка, падкая на всякий внешний успех, уже показала в этих нескольких строчках свое лицо. Но Скрябин предпочел над объявлением просто посмеяться.
Он выясняет, сколь дорого обойдется билет на пароход, и возможность для Татьяны Федоровны разделить путешествие отпадает сама собой. Предстоит еще заработать деньги для семьи, которая останется в Амстердаме под присмотром родственников жены, и заполучить деньги на поездку. Почти невозможная ситуация разрешается до невероятного быстро. Он просит Лядова посодействовать, чтобы Попечительный совет выслал гонорар за присланные четыре пьесы (ор. 51), не дожидаясь первой корректуры. Совет не только согласился, но проявил неожиданную чуткость: присудив Скрябину Глинкинскую премию за «Божественную поэму», он выказал готовность в нарушение устава переслать ему деньги досрочно, с тем лишь условием, чтобы Скрябин пока не разглашал решение совета. Три сольных концерта — два в Брюсселе и один в Льеже — довершили его подготовку. Если бы он отменил турне, денег хватило бы надолго. Но фантастический проект уже не отпускал его.
С самого начала поездки эта фантастика начинала приобретать анекдотические черты. В сущности, путешествие началось с неразберихи. Из Амстердама он выехал в Роттердам на поезде, еще не подозревая, что багаж, благодаря «стараниям» администрации дороги, едет совсем другим составом. Прибытие в Роттердам началось с его поисков. «Пришлось совершить целое путешествие, — пишет он Татьяне Федоровне с парохода, — и потратить много лишних денег». На счастье, ему встретился чудак-голландец, говоривший по-французски. Он не только помог Скрябину «уладить дела», но даже посадил на пароход «Ryndom», который и повез его в далекую Америку. Немножко нервотрепки, немножко суеты — и все улажено. Главный казус был вовсе не в этой суматохе. Нелепость проглядывала в самом факте: собираясь ехать за мифическим богатством, Скрябин начал с непредвиденных расходов.
Лирическая фантастика, уже совсем в духе Скрябина, проступает в том же письме, наскоро писанном на палубе: «Душенька моя, все время думаю о тебе. Будь умница, береги единственное сокровище твоего возлюбленного. В случае пожара не вздумай подвергать себя из-за «Роеmе de l’Extase». Пусть лучше 10 поэм экстаза погибнут, чем ты обожжешь себе личико! Драгоценность моя, береги себя, береги себя; будешь ты, так я еще тысячу поэм напишу. Я очень беспокоюсь о тебе, моя крошка, до того, что вернулся бы сейчас! Не печалься, верь в то, что все будет хорошо. Этим ты и мне куражу придашь!»
Все смешалось в этих строках: извечно приподнятый, детско-романтический тон его писем, неожиданное предположение с возможным пожаром и ухарский стилистический завиток с «куражом». Продолжение еще неожиданней: лихая скоропись скрябинского послания уже граничит с абсурдом. Он уговаривает свою «душеньку» не скучать и вдруг… — «Времечко пройдет скоренько, и козел вернется с туго набитой сумой, а тогда мы уже никогда больше не расстанемся».