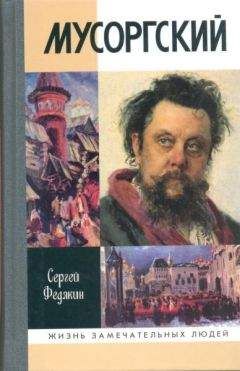Скрябин - Федякин Сергей Романович
Еще ярче говорит об этом рассказ Гнесина. Николай Андреевич был крайне раздражен не самой музыкой, но составом оркестра:
«— Зачем восемь валторн, когда того же эффекта, а может, даже и большего, можно было бы добиться с обычными четырьмя валторнами?!
— А как Вы расцениваете саму музыку? — спросили у Римского — Корсакова.
— Что говорить: музыка на грани гениального!»[97]
Этот же эпизод в других воспоминаниях Гнесина расписан еще подробнее:
«Не помню, было ли это на репетиции или в самом концерте. Римский-Корсаков сидел у самого оркестра и как-то нервно слушал, вскакивая и, видимо, чем-то раздражаясь. А. Л. Шмулер впоследствии рассказывал мне, что Корсакова раздражало отсутствие большого оркестрового мастерства у Скрябина, и вместе с тем лично ему чуждая героическая поза, сказывающаяся уже в грандиозном составе оркестра. «Ну, скажите, к чему здесь восемь валторн? Если умело расположить, так и с четырьмя можно достигнуть даже большего, чем у него, результата! Во всем этом самомнение, рисовка и поза». — «Пусть так, — ответил Шмулер. — Но музыка, сама музыка хороша!» — «Да что говорить — граничит с гениальным!» — «Так не все ли равно: четыре или восемь валторн!» — «Да, пожалуй, что Вы и правы», — сказал Корсаков и замолк»[98].
Как не вспомнить замечательно честное, полное само-удивления признание Корсакова, что почему-то к успеху Скрябина он всегда испытывает сальерическую ревность? Впрочем, и здесь Корсаков в придирках был бы по-своему прав… если забыть, что «Божественная поэма» — не только музыка, но и «философия в звуках». «Все же замечание Николая Андреевича о восьми валторнах не было лишено справедливости, — добавляет Гнесин. — Впоследствии в одном из концертов после Третьей симфонии непосредственно исполнялась Шехерезада и мощный ее финал (с четырьмя валторнами) вполне постоял за себя». Но в том-то и дело, что Римский-Корсаков выражал в звуках переживание или картину. Скрябин — выражал не только «переживание», но и мысль, ее движение, ее жизнь, ее катастрофу и торжество. И оркестровка призвана была отразить это. Дело было не только в «звучности», но и собственно в количестве. Необъятность расстояния между «микрокосмом» и «макрокосмом» и мог подчеркнуть громадный оркестр, противостоящий отдельным инструментам.
Но придираться к оркестровке мог только такой знаток дела, как Николай Андреевич. А вот впечатление Римского-Корсакова — «на грани гениального» — было общим.
«Симфония произвела ошеломляющее, грандиозное действие, — вспоминал Оссовский. — С уст потрясенных слушателей то и дело срывался восторженный эпитет «гениально». Помню, как после концерта Ф. М. Блуменфельд, Н. С. Лавров и я, все трое в необыкновенно приподнятом, каком-то праздничном состоянии, нервно возбужденные, точно в опьянении, долго бродили взад и вперед по Невскому, делясь своими восторгами, вновь переживая в памяти только что испытанные глубокие впечатления, наперебой восхищаясь изумительными деталями, щедро рассыпанными вдохновенной рукой по всей партитуре. Нам казалось, что Скрябин этим произведением возвещает в музыкальном искусстве новую эру и симфония, как яркий маяк, указует путь, по которому отныне пойдет дальнейшее развитие мировой музыки. Между нами было неоспоримо решено: Скрябин — гений и вождь».
В полном согласии звучит и голос другого очевидца, А. Дроздова: «Общее впечатление от симфонии было могучим, грандиозным. Могучая тема самоутверждения, волевая мощь стихийных Luttes, роскошь певучего Lento — все это воспринималось нами как торжественный синтез стихии революционной и художественной»[99].
Даже те, кому не понравилось исполнение, Скрябиным были потрясены. «Вчера ходил на русский симфонический концерт, — писал один из корреспондентов С. И. Танеева, — и слушал в чрезвычайно посредственном исполнении (дирижировал Блуменфельд) симфонию № 3 Скрябина «Роеmе Divin». Это «чрезвычайное» сочинение! Такое богатство музыки истинной — с настроением, с подъемами, с богатейшими мелодиями и контрапунктической работой, что я даже, который Скрябина считает великим мастером своего дела, диву дался. Какие он невероятные шаги делает. Какая это роскошь музыки. Воображаю, что это было, когда Никит ее давал в Париже!»
Скрябин о петербургском потрясении узнает из письма Стасова. Старейший музыкальный критик, всю жизнь положивший на поддержку русского искусства, особенно — музыки, пестовавший когда-то Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и многих других композиторов, в слухе своем «почвенный» до мозга костей, писал теперь «странному», дерзкому «ниспровергателю основ»:
«Наилюбезнейший дорогой Александр Николаевич. С великим восхищением я присутствовал на торжестве Вашей III симфонии «Le divin роете». Еще на большой репетиции, в зале дворянского собрания, среда 22 февраля, она возбудила симпатии и восхищение всех немногих, но что-нибудь понимающих в новой музыке, присутствовавших там; на другой же день, в четверг 23-го, она возбудила и удивление, и глубокие симпатии многочисленной публики. Зала дворянского собрания была полна-полнехонька, и, я думаю, с этого вечера у Вас прибавилось много сотен почитателей и поклонников! И иначе не могло и не должно было быть. С этою симфониею Вы сильно выросли). Вы уже совсем большой музыкант стали. В таком роде, складе, виде, форме и содержании, как создана эта симфония, у нас еще никто не писал). Конечно, тут еще немало Рихарда Вагнера, но тоже тут есть уже много, громадно много и самого Александра Скрябина. Какие задачи! Какой план! Какая сила и какой склад! Сколько страсти и поэзии во 2-й части (volupte)! Но и оркестр — какой чудесный, могучий, сильный, иногда нежный и обаятельный, иногда блестящий! Да, у Вас теперь есть, среди русских, уже много сторонников и почитателей. — Тотчас после этого беляевского концерта 23-го февраля пошла вереница статей в газетах… Надо признаться, что у нас нынче нет вовсе замечательных и талантливых музыкальных критиков. Все посредственности или ничтожества. Лишь немногие поднимаются до степени чего-то изрядного. Ну да что тут поделаешь! Но даже и большинство между ними понимают, что Вас надо высоко ценить, что Вы уже и теперь занимаете место — значительное.
Желаю Вам всяких успехов и процветаний, и художественного роста, а сам с восхищением и симпатией вспоминаю наши беседы с Вами у дорогого нашего, так рано, к несчастью, скончавшегося Митр. Петр. Беляева, когда Вы мне играли Сонату, этюд dis-moll[100] и прочее многое чудесное; и еще вспоминаю наши беседы о философии истории — сидя и едучи на извозчике, по Невскому.
Ваш В. С.».
В самые трудные женевские месяцы, уставший от неопределенности своего положения и от безденежья, несколько минут Скрябин был по-настоящему счастлив. Строки ответного письма Стасову выдают его волнение: «Вы явились вестником моего первого очевидного успеха в Петербурге».
Кажется, он уловил в последних строках письма старшего товарища тон прощания. Стасов чувствовал скорый свой уход и торопился поблагодарить младшего собрата за прежние беседы, за все замечательное, что рождалось в их разговорах. Скрябин не хочет прощаться, не хочет, чтобы и чудесный старик Стасов стал его «прошлым», и торопится произнести: «Надеюсь, что эти минуты еще не раз повторятся».
Следом пишется и благодарственное письмо Блуменфельду: «Прими мою искреннюю и глубокую благодарность за прекрасное исполнение моей симфонии', о котором я узнал из многих газет, а также из писем некоторых друзей. Ты свершил чудо, исполнив ее, имея лишь две репетиции. Это почти невероятно».
Итак, его имя на родине прозвучало, и прозвучало во весь голос. Но для поездки в Россию нет средств. Нет пока и произведения, которое должно еще больше привлечь внимание к его творчеству. В мае 1906 года за свой счет он публикует лишь ее «стихотворный слепок».
Эта брошюрка вышла в Женеве небольшим тиражом. В заглавии звучало «желаемое», но пока еще не осуществившееся: «Поэма экстаза. Слова и музыка А. Скрябина». Писать музыкальную «Поэму экстаза» он будет еще два года. В стихотворном виде в ней нет и намека на поэзию. Разве что в двух строчках: