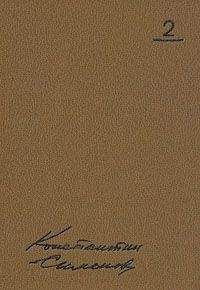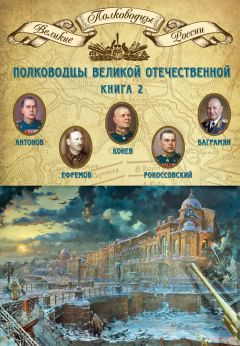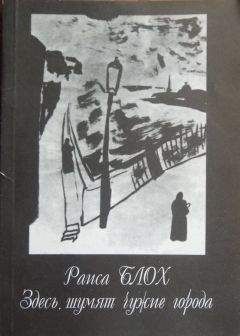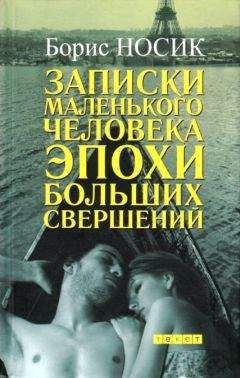Борис Носик - Здесь шумят чужие города, или Великий эксперимент негативной селекции
В 1917 году Зданевич в конце концов кончает университет, служит недолгое время в секретариате Керенского, но потом вместе с братом возвращается в родной Тифлис, на Головинский проспект (ныне Руставели). Это было золотое время в жизни грузинской столицы. Еще светило солнце над парадным «европейским» и экзотическим «азиатским» городом Тифлисом, ярко пестрели фрукты и зелень на рынках, алела полузабытая питерскими беженцами баранина, дразнил обоняние запах жареного мяса, загадочно курились серные бани, одуряюще пахло от духанов и хашных, от всяческих харчевен и винных подвалов, наперебой зазывали публику зурна за мостом через Куру, поэт-заумник Крученых в кабаке на Головинском и косноязычный колдун Гурджиев, создававший в ту пору «Институт гармонического развития». Гортанно читали в застольях свои музыкальные стихи поэты-символисты из «Голубых рогов». Мужчины были элегантны и благородны, а женщины — точно райские пери.
И впрямь ведь — после холода, голода и насилия, воцарившихся в русских столицах с войной, революцией и путчем, Тифлис был традиционным и все же нежданным раем. Здесь было спокойно. У власти были меньшевики, Грузия была объявлена независимой, а порядок в городе поддерживали сперва серьезные и спокойные немцы, а потом еще более спокойные англичане.
Илья Зданевич, вернувшись осенью в Тифлис из археологической экспедиции по экзотической пустыне турецкой Грузии (позднее он подробно описал это путешествие в «Письмах Филиппу Прайсу»), с новыми силами ринулся в оргработу и в творчество. Если верить его письмам, приходилось также подрабатывать спекуляцией, чтоб жить прилично, ходить в кабаки и ни в чем не нуждаться.
Извечный приют свободы, жаркий Тифлис, уже был тогда отчасти знаком с последними достижениями мировой культуры — с футуризмом и заумной поэзией: лекции об их неизбежности и прелести читали здесь, вдалеке от фронтов войны, и рослый тыловой воин Маяковский, и Кульбин, и летчик Каменский, и Бурлюк, и сам Зданевич. Теперь у тифлисцев появилась возможность ближе познакомиться со зрелыми плодами всяческой и «всеческой» культуры. Кирилл Зданевич выставлял здесь свои картины, Илья Зданевич и красивые дамы-поэтессы, вроде Нимфы Белкон-Любомирской, жены Городецкого (ее звали, конечно, сильно попроще — Анна Иванна, так что Нимфу пришлось почерпнуть из мифологии, а сложный для простолюдина французский эпитет Бел-кон впрямую намекал, вероятно, на несравненную красоту ее сокрытого от публики заветного, а может и причинного, местечка), Татьяна Вечорка (она же Толстая) и прочие писали заумные, не рассчитанные на понимание стихи, и лишь когда дамы срывались на какие-нибудь традиционные «стансы» и «экспромты», видно было, что с поэзией у них пока туго и период ученичества затянулся. Впрочем, понимать поэзию было заведомо необязательно. Один из самых пылких адептов футуризма — тифлисский поэт Кара-Дервиш (он же Акоп Ганджан) и вовсе писал по-армянски, и, хотя никто его не понимал, все были к нему ласковы. Футурист-летчик Василий Каменский (тоже, конечно, не знавший армянского) сообщал, что у Кара-Дервиша «светлая, талантливая голова», а видный деятель авангарда Игорь Терентьев (поэт, сочинивший незабвенные слова «крюдь» и «контранит»), видный режиссер, теоретик искусства и, конечно, художник (кто ж тогда был не художник?), прославил Грузию и Кара-Дервиша в очень милом четверостишии:
Слава стране,
Где ходит Кара-Дервиш,
Похожий на Екатерину Вторую,
Где я живу и ворую.
Понятно, что выше всего в непонятном, иноязычном авангардисте Кара-Дервише собратья ценили его искреннюю веру в заумь. Его вера помогала творить. Мне довелось наблюдать этот пиетет к чужой убежденности лет сорок спустя в среде московских авангардистов. «Он по-настоящему верит в это! — говорили у нас об одном ушлом хитреце. — Остальные притворяются». Так вот, симпатичный Кара-Дервиш «по-настоящему верил». Недаром о нем так восхищенно писал красавец-поэт Паоло Яшвили: «Человек — он оправдание. Как поэт — он неведом. Кара-Дервиш! Позвольте представить! Уолт Уитмен… В Кара-Дервиша верит поэт Паоло Яшвили».
Позднее красавца Паоло Яшвили приказал расстрелять рябой тифлисский бандит-коротышка Джугашвили с блатной кличкой Коба. Заодно он велел убить Терентьева и Ермолаеву, с которыми сотрудничал Зданевич, но всем этим молодым сотрудникам Зданевича еще оставалось тогда лет двадцать жизни и можно было не думать о будущем. Двадцать лет надо прожить, и в недалеком 1923-м великий режиссер Игорь Герасимович Терентьев еще ставил ревдрамы и возглавлял в Институте художественной культуры (Инхук) отдел зауми, о чем так оповещал читателей своих заумных стихов: «На днях под названием „Фонологический отдел исследовательского института высших художественных знаний“ эта работа должна быть утверждена в Академическом центре… Части Института объединены платформой „беспредметности“ и составляют федерацию 41° — супрематизм (Малевич) — „Зорвед“ (Матюшин)».
Сообщение это извлечено из собрания сочинений Терентьева, вышедших по-итальянски в Болонье, а упомянутая федерация «41°» как раз и была создана совместно Терентьевым и Зданевичем в мирном меньшевистском Тифлисе 1917 года. Одновременно было создано издательство с таким же названием (в честь 41-й параллели, пересекающей мирный Тифлис).
Это были, наверное, самые плодотворные годы в долгой жизни деятельного Ильи Зданевича. Он пишет тогда сразу пять вполне заумных драм, в которых, по сообщению одного влиятельного автора, царит «игровое пространство с перевернутыми связями, смех сам по себе». Драмы назывались «АслааблИчья пИтерка дЕйстф» (видимо, «Обличья осла в пяти действиях»), «Янко крУль албАскай», «асЕл напракАт», «Остраф пАсхи», «згА Якабы» и «лидантЮ фАрам» (как видите, «смех сам по себе» достигнут был несложным коверканьем русской речи, которое, вероятно, нетрудно было подслушать в коверкавшей главный язык империи тифлисской базарной толпе). Произведения Зданевича имеют, по заверению ученого критика, «довольно сложную структуру», объяснить смысл коей брался, однако, в начале 20-х годов знаменитый Виктор Шкловский:
«Илья Зданевич обратил все свое огромное дарование в художественный эксперимент. Это писатель для писателей. Ему удалось выяснить звуковую и звукопроизносительную стороны слова. Но заумь Зданевича — это не просто использование обессмысленного слова. Зданевич умеет возбуждать своими обессмысленными словами ореолы смысла, бессмысленное слово рождает смыслы. Типографская сторона в произведениях Зданевича — одно из любопытнейших достижений в искусстве. Зданевич пользуется набором не как средством передать слово, а как художественным материалом. Каждому писателю известно, что почерк вызывает определенные эмоции… Зданевич возвращает набору выразительность почерка и красоту каллиграфически написанного Корана. Зрительная сторона страницы дает свои эмоции, которые, вступая в связь со смысловыми, рождают новые формы».