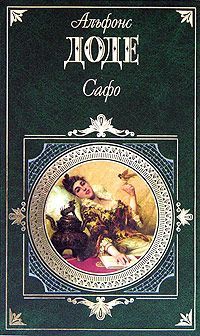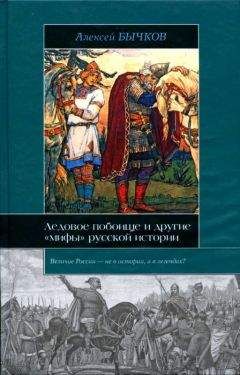Геннадий Седов - Фанни Каплан. Страстная интриганка серебряного века
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукой подписано
НИКОЛАЙ
2 марта в 15 час. 1917 года.
Город Псков.
Скрепил: министр Императорского двора генерал-адъютант граф Фредерикс».
Из дневника великого князя Андрея Владимировича:
4 МАРТА. КИСЛОВОДСК: «Сегодня как гром нас обдало известие об отречении Государя за себя и Алексея от престола в пользу Михаила Александровича. Второе отречение великого князя Михаила Александровича от престола еще того ужаснее. Писать эти строки, при переживании таких тяжелых моментов, слишком тяжело и трудно. В один день все прошлое величие России рухнуло. И рухнуло бесповоротно, но куда мы пойдем. Призыв Михаила Александровича к всеобщим выборам ужаснее всего. Что может быть создано, да еще в такое время. О, Боже, за что так наказал нашу Родину. Враг на нашей территории, а у нас что творится. Нет, нельзя выразить все, что переживаешь, слишком все это давит, до боли давит».
«Речь»:
ПЕТРОГРАД, 4 АПРЕЛЯ: «Германия в нашем тылу».
«Русские эмигранты-большевики с Лениным во главе приехали в Стокгольм, перерезав с юга на север всю Германию. На швейцарской границе им предоставлен был особый вагон, в котором они и проследовали благополучно по назначению. По пути они пользовались, во владениях императора Вильгельма более чем дипломатическими преимуществами, ибо у них не осматривали ни багажа, ни паспортов. Настроений г. Ленина нам все равно никогда не понять. К счастью, в этом отношении мы оказываемся солидарными даже с такими крайними русскими эмигрантами, как редакция «Призыва». Как известно, сотрудники этого органа еще в субботу, на Страстной, опубликовали в русских газетах энергичный протест «против политического бесчестия», заключающегося, по их мнению, в том, что русский гражданин, едущий в Россию, счел возможным входить в какие-то соглашения с правительством, проливающим кровь бесконечного количества наших сыновей и братьев. Повторяем, психологии г. Ленина нам все равно никогда не понять. Поэтому мы не будем останавливаться на тех аргументах, которые им опубликованы в шведской газете «Политика» и которые имеют, по-видимому, целью оправдать жест русских большевиков, возмутивший даже редакцию «Призыва». Нас интересует только одна сторона дела. Через какого-то Фрица Платтена, швейцарского антимилитариста, г. Ленин и товарищи вступили в переговоры с императорским германским правительством. Не с Либкнехтом, который сидит в тюрьме, и даже не с Шейдеманом поддерживающим императора Вильгельма социал-демократической фракцией рейхстага. Нет. Они вступили в соглашение с кайзером, с Гинденбургом, с Тирпицем и со всей той шайкой аграриев-юнкеров, которые в настоящее время представляют собой правительство Германии. Психологию кайзера мы понимаем, надо полагать, достаточно хорошо для того, чтобы формулировать один тезис. Если бы приезд Ленина с товарищами был невыгодным для Вильгельма и Гинденбурга, то ему не предоставили бы посольского вагона. Поэтому двух мнений быть не может. Когда немецкие военные власти предоставляли салон в распоряжение Ленина, то они руководились не антимилитаристическими и не социал-демократическими соображениями, а исключительно только пользами и нуждами Германии, как они, Гинденбурги, эти пользы и нужды понимают. Мы имеем, значит, официальное удостоверение того, что приезд Ленина выгоден для германских аграриев-юнкеров и берлинской милитаристической клики. Немцы в восторге от того, что большевистский вождь наконец в России и «агитирует». К этому тезису мы ничего не прибавим».
Свобода!
Вдребезги разбитая дорога, хлещет, пробирается под задубелую рогожу ледяной ветер. «Нно-о! — монотонный возглас возницы с облучка. — Нно-о, милы-яя!»
Сидя спина к спине с Марусей Спиридоновой, она трясется в скрипучей телеге. Рядом, тесно прижавшись, еще восемь вчерашних политкаторжанок. Все свои, мальцевитянки. Сестры Пигит, Верочка Штольтерфот, Маруся Беневская, Фаня Радзиловская, Нина Терентьева, Ира Каховская, Ольга Полляк. «Отчаянные» как отозвался о них, подписывая подорожные бумаги, начальник тюрьмы. Сразу же по получении указа об амнистии приняли решение не дожидаться тепла, добираться до Читы на лошадях, по зимнику — где наша не пропадала!
Стеганые арестантские халаты поверх шерстяных платьев не греют, мороз пронизывает до костей. Спасает взятый в дорогу «файертоп», сооруженный по ее указке перед самым выездом. Вспомнила, как согревались в морозные дни штетловские базарные торговки: закладывали в ведра с дырами на боку сухие щепки, подбрасывали уголька, поджигали, ведро медленно накалялось — благодать! — на дворе стужа, а ты сидишь себе как у бога за пазушкой.
Она высовывается время от времени из душной рогожи — курнуть раз-другой, озирается по сторонам: день ли, вечер — не поймешь. Оголенные сопки в туманной пелене, тусклый диск солнца на небе. Вторая неделя как они в пути. Все простужены, кашляют по-собачьи, устали донельзя. У Маруси жар, стонет уронив ей на плечи голову, пылает как печка. Отдала перед выездом, как она не сопротивлялась, свой пуховый платок. «У меня какая-то непонятная реакция на шерсть, — объяснила, — чешусь»…
Скрип колес, подъем, спуск, переправа по льду замерзшей речки, короткие дневки, чтобы накормить и перепрячь лошадей, ночевки — в упрятавшихся по склонам поселках рудокопов, на заимках, в дымных избах поселенцев. На лавках, теплой печке гуртом, на холодной соломе в подклети рядом с блеющими овцами. Не успеешь чуточку согреться, провалиться в сон, раскачивают за плечи: подъем! Жидкий чай из самовара, заплесневелые сухари. «С богом, барышни!» Вновь ухабистая дорога, скрип тележных колес, свист ветра за рогожей.
В Читу добрались полуживыми. Сходили на базар, купили съестного. Загодя приобрели билеты, неделю жили на вокзале в ожидании поезда. Спали в переполненном зале ожидания: кто на лавке, кто на полу.
Она озиралась с удивлением по сторонам: везут в тележках, несут на плечах поклажу богато одетых господ в мехах и горностаях носильщики; ходят поблизости жандармы, проверяют паспорта; кучка студентов в форменных шинелях курит у входных дверей; мочится озираясь у пристанционного забора мужик в стеганом армяке. Впечатление, будто ничего в мире не изменилось, осталось как прежде.
«Может, — думалось, — революция просто не успела еще сюда добраться? Или — как?»
До Иркутска и дальше в Москву они ехали вторым классом. Соседи — мещане, служащие, банковский служащий с женой и малолетним сынишкой, три молчаливых монашки в темных платках говорили о чем угодно, только не о главном событии, которое, как ей казалось, должно было в первую очередь занимать умы людей: историческом повороте в жизни страны, переходе власти в руки народа, начале новой жизни. Ничего подобного! Толковали об ужасной дороговизне, дорожных мошенниках, очищающих кошельки пассажиров, болезнях детей, приближающейся Пасхе.