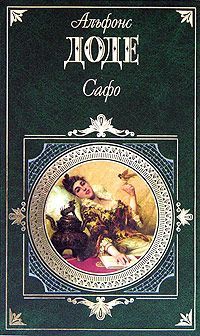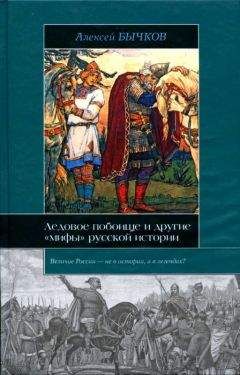Геннадий Седов - Фанни Каплан. Страстная интриганка серебряного века
Начальнику Акатуевской тюрьмы.
Ссыльнокаторжным Каплан Фейге и Измайлович Александре вследствие упадка питания прошу разрешить за свой счет ежедневно в течение одного месяца по 1 фунту белого хлеба, 1 бутылки молока и по 2 яйца. То же — и Карвовской.
Врач Вокслин».
Резолюция, 4 августа: «Объявить старшему надзирателю А.А. Сухаревой».
«Село Алгачи Забайкальской области, врач Нерчинской каторги, 9 сентября 1916 года.
Начальнику Акатуевской тюрьмы.
Ссыльнокаторжным Каплан Фейге и Измайлович Александре вследствие хронического катара желудка прошу разрешить приобретать за свой счет ежедневно в течение одного месяца по одному фунту белого хлеба, 1 бутылке молока и по два яйца.
Врач Вокслин».
Резолюция: «Выдавать за счет Каплан и Измайлович».
«Акатуй Забайкальской области, фельдшер Акатуевской тюрьмы, 30 сентября 1916 года.
Господину начальнику Акатуевской тюрьмы.
РАПОРТ.
Ссыльнокаторжной Каплан Фейге вследствие хронического катара желудка прошу разрешить приобретение за свой счет по две курицы в неделю в течение одного месяца. Курица нужна для диетического лечения.
Мед. фельдшер Деревянко».
Резолюция: «Разрешается покупать».
«Село Алгачи Забайкальской области, врач Нерчинской каторги, 3 октября 1916 года.
Его Высокоблагородию господину начальнику Акатуевской тюрьмы, 3 октября 1916 года.
Ввиду обострения желудочного катара ссыльнокаторжная Фейга Каплан нуждается в улучшенном питании — 1 фунт белого хлеба, 1 бутылка молока, 2 яйца в день и 10 фунтов рису и картофельной муки на месяц октябрь.
Врач Вокслин».
Резолюция: «Исполнить желание врача. Рис и картофельную муку не давать. Быть в камерах и усилить надзор. Готовить в лазарет».
«25 января 1916 года. Сибирь Забайкальской области, Александровский завод, начальнику Акатуевской тюрьмы, Superintend ant Akatuew prison
Aleksandrowsk zawod Zabaykalsk Oblast
Sibiria Russia
Его Высочеству начальнику Акатуевской тюрьмы.
Уважаемый сударь!
Надеюсь, что Вы простите нас за нашу дерзость писать к Вам. Но это была наша последняя надежда узнать что-нибудь о нашей дорогой дочери. Между заключенными в Вашей тюрьме находится наша дочь Фейга Каплан. Но вот уже прошло больше года, как мы ни слова не слышали от нее. День за днем мы провели этот год в томительном ожидании хоть одного слова от нее. Но понапрасну. Уже целый год прошел, а мы все еще ждем у моря погоды.
Мы поэтому обращаемся к Вам: сделайте это благотворительное одолжение, поддержите наши старые годы, и уведомите нас хоть одним словом, жива ли она, здорова ли. Если Вы сами не хотите писать, то будьте любезны уведомить ее, и заставьте ее нам писать немедленно. Пусть она уведомит нас о ее здоровье. Просим Вас опять, не откажите нам в нашей маленькой просьбе и удостойте нас немедленным ответом. Бог вознаградит Вас за Ваше благотворное деяние.
С искренним почтением Файвел и Сима Каплан.
Наш адрес:
m-r Rothblat, 1250, So. Saweer avenu, Chicago, US America.
Г-н Ройтблат, Чикаго, Америка, Сойер улица (авеню)».
Резолюция: «Пускай Каплан напишет письмо. Которое официально отправит из конторы при бумаге. 25 февраля 1916 г.».
«Г-ну Ройтблат
Чикаго, Америка
Сойер улица (авеню)
Для передачи Файвелу Каплан
Вследствие Вашего письма мною предложено Вашей дочери ссыльнокаторжной ввереной мне тюрьмы Фейге Каплан написать Вам письмо, которое при сем прилагаю и сообщаю, что она в настоящее время жива и здорова.
За начальника тюрьмы капитан Рубайло».
Она сочинила на скорую руку письмо в Америку. Объяснила причину молчания: хворала, лечилась, ездила по лечебницам, теперь, слава богу, дело вроде идет на поправку. Попросила, если можно, прислать для чтения лупу — та, что сейчас у нее, недостаточно сильная, приходится напрягаться, глаза быстро устают.
Через два месяца, в мае, на ее имя поступил денежный перевод на шестьдесят два рубля пятьдесят копеек и бандероль с сургучными печатями владивостокской таможни, из которой она извлекла великолепную лупу с удобной витой ручкой и мягкие бархоточки для протирания стекла. Ура, живем!
В феврале товарищи поздравили ее с днем рождения — двадцать семь лет. Собрались после ужина в больничной палате, устроили ночное чаепитие с сушками. Шутили, смеялись.
— Девушка на выданье, — обнимала ее за плечи Дина Пигит. — Женихи на воле ждут не дождутся.
— Скажете, — усмехалась она. — Перестарка. Зубы крошатся.
— Зубы подлатаем.
В разгар вечеринки в дверь осторожно постучали, вошел санитар с подносом в руках. Легкий переполох, посетительницы привстали с мест.
— Спокойно, гражданки ссыльнокаторжные! — санитар поставил на стол пышный каравай с изюмом. — От их высокоблагородия господина начальника тюрьмы. Презент имениннице… Желаю здравствовать, — попятился к выходу. — Потише только, если можно.
«От начальника тюрьмы? Ей? Поздравление? Чудеса в решете!»
Что-то не очень понятное происходило в последнее время в Акатуе. Тюремщики — надзиратели, санитары, конвойные — обрели странным образом одинаковое выражение лиц: крайней озабоченности. Перестали словно бы по рассеянности замечать мелкие нарушения, делали поблажки в вопросах, ранее не подлежавших обсуждению, некоторые стали даже первыми здороваться.
— Зашевелилось что-то на воле, — обмолвилась при встрече Вера Штольтерфот. — Жди перемен.
И впрямь — зашевелилось. В Акатуй, минуя цензуру, поступали невероятные сообщения. В Петрограде уличные манифестации под антивоенными лозунгами, стачки, забастовки, брожение среди военных. От прежней ура-патриотической настроенности — ни следа. Государственная власть дискредитирована громкими скандалами, трещит по швам, разваливается. Дума практически парализована, в правительстве чехарда: сменяются беспрестанно министры, один другого хуже и некомпетентней. Изолированный в своем поезде в Ставке Николай Второй, принявший на себя роль верховного главнокомандующего, не принимает по существу участия в управлении страной. Во дворце командует пьяница-растрига Распутин, ползут слухи об измене в пользу германцев императрицы Александры Федоровны. Обстановка накалена до предела, вот-вот взорвется…
Зима тысяча девятьсот семнадцатого года в Забайкалье выдалась бесснежной, лютой. Раскачивались по ту сторону тюремного забора, скрипели на пронизывающем ветру лиственницы, носились в мглистом полусвете дня растрепанные вороны. Стены камер промерзали насквозь, внутри — топи, не топи — зябко, стынут руки. Набивались вечерами в их с Сашей больничную палату (начальство делало вид, что не замечает), сидели у огня, подбрасывали поленца в печурку, терли глаза от едкого дыма. Говорили до полуночи, до рассвета. Теперь уже никаких сомнений: страна на пороге революции. Только бы не сплоховали, как в девятьсот пятом, не дали властям времени опомниться. Забыли о разногласиях, партийных платформах. Главное сейчас — навалиться всем миром, победить.