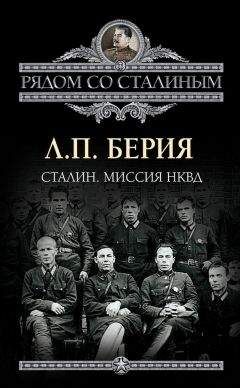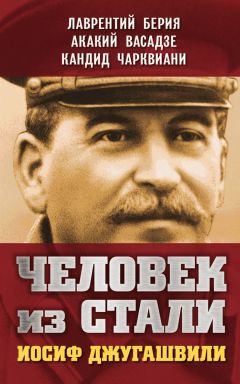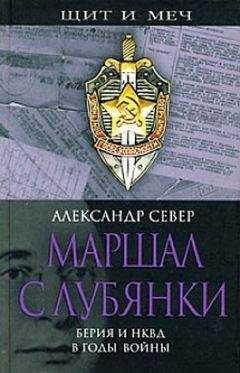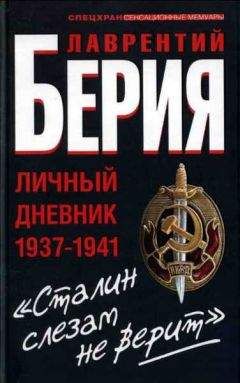Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
В «Аполлоне» на богемного гения стали посматривать с плохо скрытой брезгливостью, да и ему в новом качестве было куда уютнее с всеядными беллетристами из «Синего журнала», «Нового слова», «Аргуса», «Огонька» и прочих изданий для «непретенциозной» публики.
Алексей Толстой, разочарованный и в стихах, и в петербургских издателях[261], решил перевезти семейство в Москву, а секретарь «Аполлона» Евгений Зноско-Боровский был готов покинуть журнал из-за постоянных ссор Маковского с соредактором Николаем Врангелем (конфликтовавшим, в свою очередь, с меценатом Ушковым)[262]. Прежняя «молодая редакция» распалась. Зато приободрились новички из «Цеха поэтов», предвкушавшие превращение «Аполлона» в журнал акмеистов. Впрочем, «синдики» загорелись идеей создать при разросшемся «Цехе» собственный печатный орган. «Я и Гумилев, – писал Городецкий 3 сентября 1912 г. книготорговцу Аверьянову, – издаем ежемесячный журнал стихов, очень маленький: в 24 страницы номер, в количестве 500 экз., с подписной ценой в полтора, должно быть, или два рубля».
Гумилев самостоятельно внес свой пай в новое предприятие, Михаилу Лозинскому ссудил необходимую сумму отец-адвокат, Городецкий привел мецената – присяжного поверенного Жукова. Остальные три денежные доли пожертвовала врач-ординатор царскосельского Дворцового госпиталя Вера Игнатьевна Гедройц, массивная зрелая дама с хриплым прокуренным голосом и натруженными красными руками постоянно практикующего хирурга. Судьба природной княжны из древнего рода средневековых литовских феодалов сложилась необычно. Семнадцатилетней курсисткой она побывала в политической ссылке, в двадцать два года с отличием закончила медицинский факультет университета в Лозанне, в двадцать восемь лет – получила боевое крещение в сражениях Японской войны, оперируя раненых в поезде Красного Креста. Тут она впервые (!) стала делать полостные операции, попала в газетные фронтовые сводки и собрала для «Общества военных врачей» материал, позволивший столичным светилам говорить о появлении в отечественной хирургии новой звезды[263]. По личному ходатайству императрицы Александры Федоровны, княжна-медик была переведена в госпиталь придворного ведомства, немедленно став одной из царскосельских достопримечательностей:
Княжна Гедройц, хирург прекрасный,
Но любит почести и лесть,
И нрав имеет грозно-ластный —
Ведь и на солнце пятна есть![264]
Удивительно, но честолюбие этой «эмансипе» простиралось и за пределы медицины! Наряду с трудами о коренной операции бедренной грыжи и новом способе иссечения коленного сустава, она публиковала беллетристику в «Светлом луче» и «Современнике», издала том «Стихов и сказок». Не чуждая мистики, Гедройц полагала, что ее литературным вдохновением руководит воля покойного брата Сергея, и подписывала художественные сочинения его именем. Возможно, потустороннее происхождение поэзии и прозы «Сергея Гедройца» оправдывало в глазах поэтессы-хирурга многочисленные промахи пера. Критики (и Гумилев в их числе) были немилосердны, но Вера Игнатьевна не унывала и не обижалась. Явившись на Малую улицу (Гумилевы уже перебрались из номеров «Белграда» в царскосельский дом), она скромно расположилась среди пайщиков, следя за перепалкой двух главных небожителей.
– Я полагаю, что простое и благородное имя «Невской цевницы» звучит вполне акмеистично и как нельзя лучше подходит к журналу «Цеха поэтов», – сердито настаивал Городецкий.
Гумилев только качал головой.
– «Мы – гипербореи, – торжественно процитировал он Ницше, – мы довольно хорошо знаем, насколько в стороне мы живем… По ту сторону севера, льда, смерти – наша жизнь, наше счастье». Будем же подражать обитателям волшебной страны Аполлона, жители которой проводили время за песнями, музыкой и пирами, вечно веселясь и славя свое светозарное божество[265].
Грубые черты Гедройц по-детски просияли, и она поспешно закивала. Старый зеленый дом на Малой улице «с крыльцом простым и мезонином» стремительно превращался в заповедную обитель –
Где в библиóтеке с кушеткой и столом
За часом час так незаметно мчался,
И акмеисты где толпилися кругом,
И где Гиперборей рождался[266].
Такое искреннее участие тронуло «синдика № 1» – Вера Гедройц оказалась «кандидатом-соревнователем» в «Цех поэтов». На первых заседаниях нового сезона юные «подмастерья» с иронией следили, как Гумилев терпеливо наставляет «седую даму, мужественного вида», потешавшую «цеховиков» лирическими откровениями в духе Полонского и Апухтина[267]:
Засыпая от дум безысходной тоски…[268]
«Поэта «Сергея Г<едройца>» «открыл» и приобщил к литературному высшему обществу Гумилев, – вспоминал Георгий Иванов. – До этого княжна «блуждала в потемках» – боготворила Щепкину-Куперник и печатала свои стихи на веленевой бумаге с иллюстрациями Клевера… Гумилев дал пятидесятилетней неофитке прочесть Вячеслава Иванова. Княжна прочла, потряслась, сожгла все свои бесчисленные стихи и стала писать о «волшбе»…»[269]
Сам Георгий Иванов вместе со студентом-астрономом Степаном Петровым, именовавшимся Граалем Арельским, представляли в «Цехе» радикальных литературных новаторов – из тех, кто подхватил в России лозунги итальянского писателя-скандалиста Маринетти:
«Поэты-футуристы, я учил вас презирать библиотеки и музеи. Врожденная интуиция – отличительная черта всех романцев. Я хотел разбудить ее в вас и вызвать отвращение к разуму. В человеке засела неодолимая неприязнь к железному мотору. Примирить их может только интуиция, но не разум. Кончилось господство человека. Наступает век техники! Но что могут ученые, кроме физических формул и химических реакций? А мы сначала познакомимся с техникой, потом подружимся с ней и подготовим появление механического человека в комплексе с запчастями. Мы освободим человека от мысли о смерти, конечной цели разумной логики»[270].
Оба поэта входили в «ректориат» некой «Академии Эго-поэзии», проявившейся в начале года. Их издательство «Петербургский глашатай» публиковал газетные листки и «альманахи» с невразумительными статьями о «самосожжении во имя «Ego», ответственного за весь мировой процесс» и особыми «скрижалями эгофутуризма»: «Человек – дробь Бога», «Рождение – отдробление от Вечности», «Жизнь – дробь от Вечности», «Смерть – воздробление» и т. п. Разумеется, подобные «скрижали» каждый мог толковать как хотел. Георгий Иванов подражал (талантливо!) Михаилу Кузмину, а «Грааль» истово перепевал Гумилева: