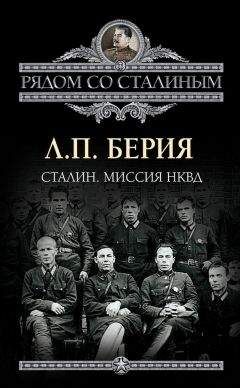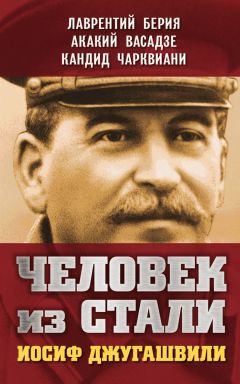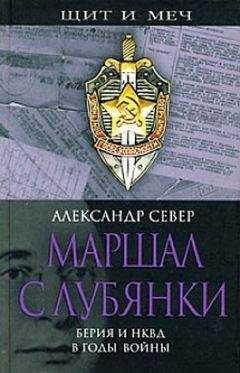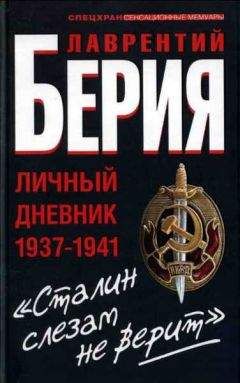Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
Натянуто-двусмысленной оказалась назавтра и встреча с maître’ом в редакции «Русской мысли». Принимая петербургских гостей, тот был очень осторожен, от прямых ответов уходил, говорил глубокомысленно и округло, то ли набивая цену, то ли посмеиваясь про себя.
– Прямо какой-то замоскворецкий купчик, начитавшийся в тридцать лет Буало[256], – разочарованно подытожила Ахматова, покидая Ваганьковский переулок. – Куда он денется от своего символизма: «И Господа, и дьявола хочу прославить я…»[257]
В Слепневе на вопрос домашних «Что о вас пишут?» Гумилев гордо ответил: «Бранят!», а Ахматова сказала сдержанно: «Хвалят». С ней возились, позволяли дремать до полудня, готовили отдельно, приносили лакомства, не прекословили ни в чем, хранили покой. Дворовые девчонки по просьбе Анны Ивановны незаметно присматривали за нелюдимой барской невесткой, когда та, закутанная в шаль, прогуливалась с бульдожкой Молли в парке, долго просиживая в беседке около пруда. Ахматовой нездоровилось. Лето в Слепневе не задалось – ближе к августу дождь лил не переставая, стоял промозглый холод. Да и в доме было невесело. Незадолго до ее приезда во флигеле поселился с семьей Борис Покровский, племянник слепневских хозяек, который, как всем становилось ясно, необратимо сходил с ума. Офицер Генерального Штаба, большой приятель Дмитрия Гумилева, любимец тетушек, здоровяк, шутник и любезник, после прошлогодней длительной командировки на Дальний Восток вдруг начал хиреть, впал в меланхолию, жаловался на потерю памяти. Жена забила тревогу, отказалась ехать на обычный летний курорт, напросилась к родственникам – и не напрасно. В несколько недель недужный страдалец утратил речь, обезножил и лишь жалобно мычал, седея на глазах. Болезнь, сгубившая некогда Покровского-старшего, забубенного курского жандарма-пьяницу, настигла и Покровского-младшего, поднявшегося до столичного генштабиста. Помешанный по категорическому требованию уездного врача был отправлен в Петербург, но, как обычно бывает, оставил по себе в Слепневе гнетущую память. К тому же странности стали происходить и с шестнадцатилетней Марусей Сверчковой, дочерью Александры Степановны. Вечная тихоня, она совсем перешла на шепот, сидела часами по неприметным уголкам и постоянно затягивала одну и ту же жалобную песенку:
Маруся ты, Маруся,
Открой свои глаза.
А если не откроешь,
Скажи, что умерла.
То ли на нее так подействовало зрелище умоисступления троюродного дядюшки, то ли просто время было несчастное.
«Николай Степанович не выносил Слепнева, – вспоминала Ахматова. – Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении». Ему обычно сопутствовал Николай Сверчков, состоявший последний год при Гумилеве на положении домашнего адъютанта. Завершив гимназию, Коля-маленький, готовясь продолжать учебу, колебался в выборе занятий. Он прекрасно рисовал, увлекался фотографией, с интересом слушал рассказы дяди о нравах и обычаях обитателей далеких стран и о дикой природе. Художественных книг юный Сверчков не признавал, но штудировал Брема[258], изучал популярные труды по ботанике и зоологии и, составляя «большому Коле» компанию в конной прогулке или партию в теннис, непременно расспрашивал, как на деле выглядят описанные там растения и животные.
В августе Ахматова совсем скисла, сутками под монотонный шум дождя сидела на диване в библиотеке, латая растрепанные тома XVIII века цветными тряпочками и кожаными обрезками в тон старых переплетов. Другие занятия ее не привлекали, даже близкие прогулки она игнорировала, жалуясь на головокружения и одолевающую слабость. Встревоженная Анна Ивановна, опасаясь выкидыша, приказала Коле-маленькому, равно как и «Большому», дежурить при беременной неотлучно, сменяя друг друга, всюду водить под руку, на подъемы и лестницы носить на руках. В конце концов, в середине месяца она услала невестку в Петербург, наблюдаться у профессора Д. О. Отта в императорском Институте повивального искусства. Гумилев, хранительным стражем, находился, разумеется, при жене.
Клиника Отта была оборудована по последнему слову акушерской науки и считалась лучшей в городе. Анна Ивановна не пожалела денег для тщательного многодневного обследования будущей матери желанного наследника; на все это время супруги Гумилевы поселились в меблированных комнатах «Белград», у перекрестка Невского с Адмиралтейским проспектом и Дворцовой площадью. Отсюда до стрелки Васильевского острова, где располагался Институт повивального искусства, на трамвае было несколько минут. Но ежедневно разъезжать с Невского на Васильевский Гумилеву не пришлось. Едва Ахматова появилась в Петербурге, как строгое шефство над ней взяла «Птица» Тюльпанова, недавно превратившаяся в Валерию Сергеевну Срезневскую, жену молодого врача, сотрудника великого Бехтерева. С беременной подругой Тюльпанова-Срезневская, как в гимназические времена, была неразлучна целыми днями, предоставив супругу Ахматовой устраивать литературные дела в наступающем новом сезоне. То, что этот сезон обещает стать незаурядным, он понял, едва переговорив с первыми встреченными знакомцами.
За лето, с переездом редакции «Аполлона» от Мойки к Пяти Углам, в ближайшем окружении Гумилева все решительно переменилось, как будто переезд оказался сменой декораций между двумя разными действиями театрального представления. Поразил Михаил Кузмин, осевший после крушения «башни» у четы Судейкиных. Ко всему «башенному» прошлому Кузмин пылал лютой ненавистью, особенно нападая на Вячеслава Иванова. Снова и снова, он твердил про «коварство», про «кровосмешение», про «погубленную девицу». Судя по доходившим в Россию вестям об Иванове и Вере Шварсалон, в действительности все развивалось иначе[259]. Но Кузмин уже собирался писать ядовитую сатирическую повесть о «покойнице в доме», главным действующим лицом которой должен был стать «высокий человек, приближающийся к пятому десятку, похожий на английского проповедника или старинного доктора более, чем на писателя».
Как будто преображенный недобрыми чарами, Кузмин с ожесточением рвал все былые человеческие нити. Впрочем, он и в самом деле родился заново. Летом, катаясь с друзьями по Финскому взморью, он перевернулся в лодке и полчаса, пока не подоспела помощь, барахтался в воде, цепляясь за кувыркавшуюся вверх дном посудину. Художник Сапунов рядом потонул, а Кузмин, по его словам, несколько раз начинал погружаться, каждый раз думая: «Неужели это смерть?» – но выплывал со стонами и криками. Пережитый смертный страх увлек его в сторону, далекую от душевной благости. В новой книге «Осенние озера» первые же строки являли образ хихикающего будуарного циника, слагаясь в издевательски похабный акростих: