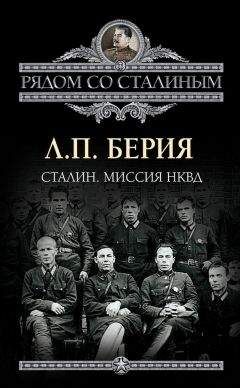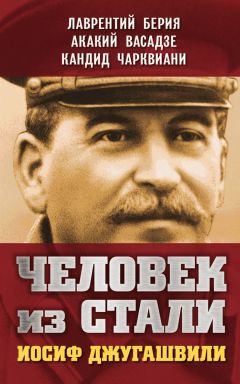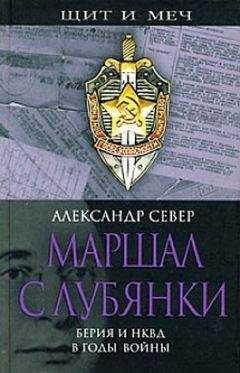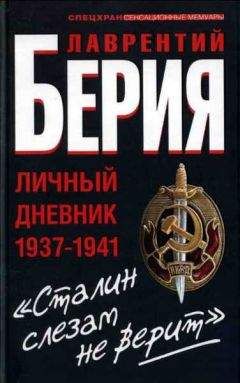Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
Слава «декадентского поэта» не оставляла его в университетских аудиториях. Студенты перешептывались – «Гумилев… Тот самый, «Чужое небо»…» – и разглядывали украдкой: узкоголовый, косоглазый, прямой, сухопарый, жесткий. Не в пример прошлому, в аудиториях он появлялся часто, но полного расписания все равно не высиживал. Среди обязательных семестровых курсов русской литературы (Шляпкин), языкознания (Бодуэн де Куртенэ[276]), истории (Платонов[277]) и философии (Введенский[278]) Гумилев жаловал в основном литературу зарубежную и молодого профессора Дмитрия Петрова, о котором был много наслышан еще со времен первой атаки на университетскую филологию. Среди универсантов Петров слыл оригиналом, соскочившим со страниц Диккенса или Жюля Верна. Не заботясь об академической субординации, он постоянно воспламенялся какими-то безумными гипотезами, азартно спорил со студентами, вечно попадая впросак, издал сборник невообразимых «Элегий и песен» («Из сада в сиявшие пышно палаты / Комар прилетел; / Смутился он – сумрачным страхом объятый / На все он глядел» и т. п.)[279], а взойдя на кафедру, вдохновенно нес возвышенную чепуху:
– Если бы дать Шекспиру изобразить его жизнь, то у того не хватило бы красок на палитре!!
Слушатели фыркали, закатывали глаза и уверяли друг друга, что изобразить красками жизнь самого Дмитрия Константиновича, верно, еще трудней, чем жизнь Шекспира. При всем романо-германский семинар, который вел Петров, из года в год собирал лучших студентов факультета[280]. Возможно, это происходило потому, что участники семинара, следуя старому доброму правилу docendo discimus[281], изо всех сил старались просветить незадачливого путаника-профессора. Под их горячие выступления и острые дискуссии Петров подремывал на председательском месте, благодушно кивал и жмурился, как сытый кот, взвиваясь, по своему обыкновению, внезапно:
– Вы там, сидящие на последних скамейках! Как вы смеете разговаривать между собой? Вы не можете так разговаривать, ибо это на семинаре запрещено! А ну-ка встаньте! Пусть все посмотрят на них!
Гумилев, Осип Мандельштам и Михаил Лозинский воздвиглись над аудиторией, немедленно взорвавшейся ироническими аплодисментами.
По составу романо-германский семинар мог вполне сойти за филиал «Цеха»: в учениках Петрова ходили, помимо Мандельштама и Лозинского, Владимир Пяст и Василий Гиппиус. Гумилев немедленно загорелся идеей проводить тут дополнительно особые заседания «кружка изучения поэтов». По факультету, разумеется, пошли насмешливые слухи, что «синдик № 1» создает филологическую группу для изучения… самого себя[282]. Однако Гумилева поддержали распорядитель (староста) семинара Константин Мочульский[283], Григорий Лозинский[284] и Константин Вогак[285]. Наладить работу кружка не получилось, но Мочульский, Вогак, Борис Эйхенбаум[286] и другие университетские филологи смешались с «цеховиками», зачастив в Волхов переулок к Михаилу Лозинскому – поболтать о том, о сем. В хозяйском кабинете с желтыми кожаными креслами, толстым ковром и окнами на далекий Тучков буян[287] получались многолюдные сборища – то ли «Цех поэтов» на отдыхе, то ли петровский семинар на выезде. Сидели на подоконниках, пили чай, курили; в красном зимнем закате чернели бесконечные ряды неподвижных парусников и барок на том берегу.
Так возникли «гиперборейские пятницы».
Лозинский, взяв на себя техническую сторону подготовки «Гиперборея», мыслил проводить в этот день недели обычные заседания редколлегии. Но вышел творческий журфикс, собиравший публику пеструю и любопытную, хотя и мало связанную с работой над журнальным номером:
По пятницам в «Гиперборее»
Расцвет литературных роз…[288]
«Сначала приходила мелкота – совсем молодые поэты, разные студенты, «интересующиеся», но скрывающие, что «они тоже пишут», – вспоминал Георгий Иванов. – Мэтры прибывали позже, по-генеральски. Из внутренних комнат появлялся хозяин дома. Статный, любезный, блестяще остроумный, он имел дар очаровывать всех – и случайного посетителя, и важного гостя, какого-нибудь профессора или знаменитого иностранца (заплывали в «Гиперборей» и такие)». Кто-то со смехом обсуждал перспективу «дней трезвости», учреждаемых городскими властями:
– То-то очереди у казенок будут, на два дня вперед запасаться! Шаляпин позавидует!
Судачили и о самом Шаляпине, поклонники которого перед представлениями «Бориса Годунова» и «Хованщины» сутками осаждали кассы Мариинского театра. Припозднившийся Мандельштам в распахнутой заснеженной шубе громко просил одолжить расплатиться с извозчиком. Городецкий пел здравицы победам славянского оружия на Балканах, наскакивая на недоумевающих филологов:
– Как можно относиться равнодушно к европейским событиям?! Неужели вы не понимаете, что война приближается к нам?
– Войны не будет. Кто угрожает нам?
– Как кто? Вильгельм! Германия!
– Пустяки…
Интерес к внешней политике в университетских кругах считался недостойным, и сражения, уже несколько недель сотрясавшие Восточную Румелию, Македонию и Албанию, в разговорах старались игнорировать.
– Не будет войны. Говорят, сам Распутин Григорий Ефимович видел недавно вещий сон – величавую женщину, символизирующую Россию, а над ней носился пылающий меч. Женщина схватила меч и мирно вложила его в ножны. Так-то вот…
– Но старец же этот… вещий… этот Распутин – в Сибири теперь, у себя, безвыездно, в деревне; кто же знает в Петербурге, какие ему там сны снятся? Или опять к нам сюда пожаловал?..
Народный пророк и целитель Григорий Распутин, очень популярный в аристократических салонах и при дворе, уже больше года вызывал повсюду пристальный интерес и горячие споры. В самый разгар перепалки Гумилев спрятал в карман сюртука огромный, точно сахарница, серебряный портсигар, и неспешно поднялся из кресла, в котором незыблемо расположился сразу после появления на «пятнице». В отличие от собраний «Цеха», тут ему, конечно, «тыкали» и называли по имени, но это студенческое «ты, Николай» у большинства гостей все-таки звучало как «Ваше Превосходительство» в устах унтер-офицеров. Вслед за Гумилевым в соседнюю комнату двинулись Городецкий с Лозинским – начиналась редколлегия. Разговоры притихли. В святилище выкликнули Николая Бруни. Тот, растерянно улыбаясь, исчез за дверью – вынырнул же, несколькими минутами спустя, красный, как кумач, со слезами на глазах: