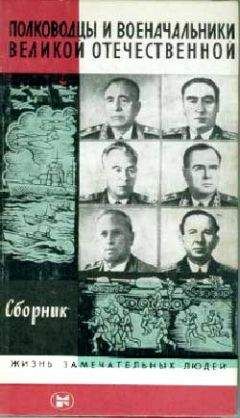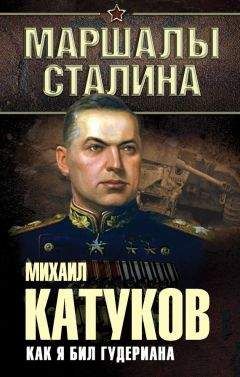Владислав Бахревский - Никон (сборник)
– Чего тебе? – спросил казак, когда она выбралась-таки на крыльцо.
– Меня пожалуй!
– Да ты ж в хоромах живешь! Не бедная, чай!
– Не бедная, да и не богатая. На скобяном товаре не разживешься.
– Не жадничай, баба! – Афанасий Иванович взмахнул соболями, но она так и повисла на руке.
– Ну, мне их дай! Мне! У меня в дело пойдут!
– Нам кидай! Нам! – кричали из толпы. – У нее всего вдосталь! Одних лошадей – пять штук.
– Я тебя как хошь уважу! – клещом висела на казаке скобяная торговка.
– Как хошь?
– Как хошь!
– Все слыхали? – спросил толпу казак.
– Слыхали!
– Покажи людям – твои соболя.
– Делов-то! – Тотчас задрала юбку, выставляя толпе бабью свою тайну. И передом стала, и, согнувшись, задом. – Делов-то!
Выхватила из рук казака связку соболей, сошла с крыльца под улюлюканье и неистовый рев толпы. Пошла, не оглядываясь. А на крыльцо уже взбегал Аввакум.
– Безбожники! Безбожники! – Сорвал с груди крест, поднял над головой.
– Мы в Бога веруем, – сказал ему казак Афанасий Иванович, надвигаясь на протопопа. – Откуда ты такой?!
– Из Москвы сослан! – поспешно крикнул Иван Струна, не ожидавший от протопопа этакой прыти.
– За что?
– За истинную веру! – опять-таки крикнул Струна.
– Люблю! – Казак обнял Аввакума, облобызал, повернул к толпе. – За веру в Сибирь пошел! Значит, добрый поп, дюже добрый! Прости и благослови!
Встал перед Аввакумом на колени.
Тот, опешив, перекрестил гуляку, перекрестил толпу.
– Привыкай, поп, к нашей жизни! – сказал казак, поднимаясь с колен. – Наша жизнь – чудна́я!
Скинул с плеч шубу, метнул под ноги кабатчику.
– Поить всех! До моего нового приходу из дальних краев! Тут хватит! – И заглянул в глаза Аввакуму: – Гуляю напоследок. Тебе-то вот дать нечего, на церковь. Все роздал.
Покрутил головой и засмеялся. Лицо у него было совсем мальчишеское, совсем простое, хорошее.
– Прощай, протопоп! Помолись за раба Божьего Афанасия!
Аввакум сошел с крыльца, его взял под руку Струна и повел от греха подальше.
– Эко ты, протопоп, безрассудный! У них ума-то тут ни у кого нет. И над священником пошутят, глазом не моргнув.
– Однако ж не пошутили, – сказал Аввакум задумчиво. – Бог для всех един!
– Един! – сердился Струна. – Он – един, да тут не Московия – тут Сибирь. Тут люди – упаси господи. Половина из них край земли видела.
– Кто он, этот Квашин?
– Как тебе сказать – кто? Саваоф!
Аввакум развернулся и треснул Струну косточкой указательного пальца по лбу.
– Ты что?! – отпрянул Струна.
– Не богохульствуй!
– Не понимаешь ты нашей жизни, – фыркнул по-кошачьи архиерейский дьяк. – Не поймешь – пропадешь! Да разве я богохульствую? Эх, Аввакум Петрович! Квашин, верно, казак. Простой казак. Но простой-то он в Тобольске. А вот как выйдет из него да наберет охочих до воли людей, то уж никто над ним не властен: ни воевода, ни царь и ни Бог! Скажет Афанасий Иванович: убить – убьют. Скажет: сто человек убить – убьют сто. И всю тысячу. Скажет – выроди! И выродят! Уж он такой. По всему Амуру хаживал. А где он, этот Амур, одному Ерофейке Хабарову известно. А Квашин про ту реку еще раньше знал. Он про многие неведомые реки знает. В таких странах бывал, что до него там один лишь Господь Бог хаживал. А то и не хаживал – с неба лишь смотрел.
– Совсем ты, дьяк, заболтался, – сказал Аввакум сурово.
– Не веришь? – Струна засмеялся смешком мелким, недобрым. – Ничего, протопоп, у тебя все еще впереди! Сибирь сама тебе про себя расскажет. Вот уж рассказец тебе будет!
Аввакум остановился, поглядел на Струну без хитрости:
– Что ты взъелся на меня, дьяк? С меня довольно патриаршей немилости.
– Прости, коли горячо говорю! – мохнатенько, всем своим рыжим пушистым лицом разулыбался Струна. – Ради тебя и горячусь. От напраслины нечаянной хочу тебя поберечь. Хочу, чтоб ты понял: Сибирь – это Сибирь. Запомни ты, бога ради, протопоп, мою присказку – тут кругом Сибирь!
15Струна вел протопопа через Кудюмку к свояку Мелешке Карамазу. Мелешка, воротясь с торгов в дальних северных городах, привез добра не меньше Квашина. Ничего не пропил из привезенного, ничего попусту не раздарил, купец – не казак.
Тут бы жить и жить, в потолок поплевывая. Ан нет! Заела Мелешку черная немочь. Одни глаза остались. И зол был очень. Всех гнал от себя: жену, детей, лекарей, попов.
О своем даре целителя Аввакум сам Струне проговорился. Дьяк спросил, не болело ли семейство в дороге, на что протопоп взъерепенил зычные глазищи и сказал:
– У меня на любую болезнь слово Божие, да крест, да святое масло. Против такой троицы ни один бес не прочен.
– Коли так, не приступишься ли ты, Петрович, к свояку моему? – спросил Струна.
Аввакум ответил нравоучительно:
– Рука дающего не оскудеет. Коли скупиться на талан, посланный небом, весь он повытечет из души твоей, как вытекает вода из разбитого сосуда. Не бесов боюсь, боюсь себя, окаянного, ибо – человек. Согрешаю делом и в помыслах. Веди к страждущему! А уж вылечу, не вылечу – как Бог даст.
Дом Мелешки Карамаза стоял сам по себе, отдалясь от уличного ряда. Двухэтажный, каменный, с каменными амбарами – был он всем напоказ и как бы даже в укор.
– Мелешка хорошие деньги заплатил, чтоб особняком построиться, – сказал Струна. – Тобольск на пожары везуч. Десять лет тому назад дотла сгорел. И в сорок шестом горели, и в сорок восьмом…
Встречала Аввакума жена Карамаза.
Тихая милая женщина подошла под благословение и, пошептавшись со Струною, обратила на протопопа печальные виноватые глаза:
– Он у нас, батюшка, к попам неистов.
Аввакум скинул шубу и, не удостоив женщину ответом, спросил:
– Идти куда?
– Да вот! – Она нерешительно дотронулась рукою до двери.
Аввакум, поклонясь низкому косяку, тотчас вошел в горницу.
Первое, что увидел: в красном углу – пусто. Ни икон, ни лампады. Людей тоже не было. Но уже в следующее мгновение Аввакум заметил притаившегося у печи человека.
– Здравствуй, Мелеша! – сказал ему Аввакум.
Человек, льнувший к печи, выглянул, готовясь тотчас спрятаться, – так дети играют.
– Ты кто? – спросил Мелешка, и лицо его дрогнуло, не зная, нахмуриться ли, или улыбнуться.
– Я – Аввакум, гонимый царем и патриархом.
– Гони-и-и-мый? – растягивая слово, переспросил Мелеша.
– Коли за три тыщи верст турнули из града стольного, стало быть – гонимый.
– Гонимый, – согласился больной, глядя на протопопа измученными, но и сострадающими глазами. – Ты что же, не знаешь, что я бешеный? Я – колочу попов, больно колочу! Не говорили тебе? Обманули?
Смотрел цепко, ждал, что протопоп соврет.