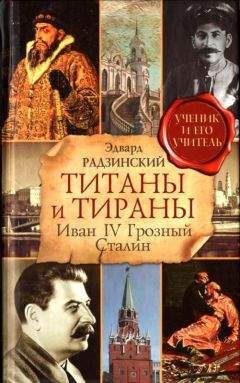Эдвард Радзинский - Иосиф Сталин. Начало
Исполком Коминтерна и взбешенный глава Коминтерна Зиновьев объявили расправу белофинским заговором. Хоронили финских товарищей торжественно на Марсовом поле. Помню, как я рассказал всю эту историю Кобе.
Он долго ходил по комнате, потом сказал:
— Хорошо иметь дело с умным человеком.
Уже вскоре Куусинен был в Москве. Все наивные смутьяны-убийцы навсегда исчезли в тюрьме. Лысенький Куусинен тотчас стал одним из руководителей Коминтерна и Финской компартии.
Таков был человек, которого я застал в кабинете Пятницкого…
Пятницкий сразу огорошил меня:
— Вы, конечно, не знаете, но Ильич тяжело болен. — Так я впервые услышал этот великий секрет. — Мы счастливы сегодня сделать ему настоящий подарок. Мечта Ильича сбудется, — и Пятницкий торжественно произнес: — Сегодня ночью случится то, что и вы и мы готовили почти пять лет! Революция в Германии! В полночь рабочие отряды в Берлине захватят ратушу, министерства, полицейское управление, государственный банк, важнейшие железнодорожные станции. В эту же ночь восстание продолжится по всей Германии. Уже к утру все главные города перейдут в руки коммунистов. Это и есть наш великий подарок больному Ильичу…
Я с изумлением слушал его. Никто из моих агентов не сообщал ничего подобного. Я сказал ему это.
— Но ваши агенты не могли ничего знать. Гриша (Зиновьев) велел держать это в строжайшей тайне, — ответил Пятницкий. — Восстание готовил наш отдел. Через одного преданного коммуниста, личного агента Гриши мы передали… — И он назвал мне астрономическую сумму. — Этот человек вчера нам сообщил: «Все готово! Пора!» В Берлин уже выехали Радек и Стасова. Гриша велел начинать. Сейчас мы ждем условленной телеграммы из Берлина — о начале восстания.
Лубянка, как я уже писал, давно контролировала Коминтерн. И в какой бы тайне они ни готовили восстание, я не мог не узнать об этом. Созданная мною сеть была связана с немецкими рабочими отрядами. И тем не менее я ничего не знал.
Но зато я был знаком с их агентом — «преданным коммунистом, личным агентом Гриши». В одну из первых поездок в Берлин я, по заданию Гриши, передал ему деньги. Дело происходило на его конспиративной квартире. Там я увидел картину воистину фантастическую. Валюта лежала всюду. Банкноты торчали из книг, альбомы с фотографиями были переложены долларами. Валютой оказались набиты чемоданы, папки… Помню, под кроватью, почему-то в ночном горшке были сложены привезенные кем-то из Гохрана очередные бриллианты…
Вернувшись, я доложил обо всем Зиновьеву. Он грубо попросил меня не вмешиваться в дела, которые меня не касаются, если не хочу схлопотать пулю! По привычке первых дней Революции этот нервный трусливый паникер-интеллигент обожал грозить расстрелом.
Так началась эта удивительная ночь. Мы сидели в кабинете Пятницкого — в окна был виден Кремль.
— Завтра эти звезды будут гореть над Берлином, — мечтательно сказал Пятницкий.
Куусинен молчал.
Пятницкий и Куусинен беспрерывно курили и по коминтерновской привычке так же беспрерывно пили кофе. В клубах дыма лица казались призрачными… Постоянно звонил телефон. С больным Лениным, точнее, с женой Надюшей поддерживалась телефонная связь. Уже в полночь должна была поступить телеграмма Радека о начале Революции. Ждал я сообщений и от своих агентов об этой внезапной Революции…
Полночь миновала — телеграмм не было! Час ночи — молчание, два, три часа — все еще ничего. Для поддержания духа Куусинен отлучался в свой кабинет, где дежурила молоденькая секретарша. Там же в кабинете стояли знаменитые брусья — Куусинен был не только женолюб, но и отличный спортсмен.
Под утро смущенный Пятницкий послал Радеку телеграмму: «Что происходит?» Через несколько часов пришел насмешливый ответ Радека: «Ничего».
Я ушел, не прощаясь.
Оказалось, восстание готовил все тот же агент Зиновьева — верный человек, «преданный коммунист», которому можно доверять. Он получал от Зиновьева огромные суммы. И все это время переписывался с ним шифровками, сообщал о подготовке восстания.
Но в судьбоносную ночь верный человек внезапно перестал отвечать… Короче, на этой затее мы потеряли большие деньги и десятки преданных людей. Жалкие группы рабочих, вовлеченные в авантюру, действительно начали действовать. В Берлине они попытались дестабилизировать обстановку, напали на полицейских и были рассеяны. В Гамбурге также началось выступление рабочих, которое тотчас было подавлено. Несчастных участников схватили.
Наследство больного Ильича
Через несколько дней после коминтерновского фиаско Коба вызвал меня в Кремль.
В кабинете Коба был один. Я спросил его о болезни Ильича.
Он мрачно сказал:
— Растрепали, бляди, не выдержали. Пятницкий, конечно? Да, Ильича мучают невыносимые головные боли, неврастения. Я советовал ему поехать к солнцу на Кавказ. Но он: «Боюсь дальней поездки, выйдет одно утомление, ерунда и сутолока. Нервы вместо лечения нервов». Сейчас лечится под Москвой, в Горках — в имении… — Тут Коба помолчал и закончил: — В бывшем имении Саввы Морозова. Тебе что-нибудь говорит это имя? — Взгляд уперся в мои глаза.
Как же он был сейчас непохож на того молодого, стоявшего у номера несчастного Саввы! Так что я честно ответил:
— Совсем ничего, Коба.
— Вот и хорошо. Секретариат, — (читай: он — Коба), — организовал приезд лучших немецких специалистов… Ильич не верит нашим врачам: «Врачи-товарищи — всегда идиоты…» Но и его любимые немцы ничего не могут толком объяснить. В партии кто-то пускает гаденькие сплетни, будто Ильич болен застарелым сифилисом и у него-де будет размягчение мозга. Я не советую тебе их повторять. Кстати, запомни: мы теперь строго наказываем за всякую безответственную болтовню. С партийной вольницей… — Он не договорил и сказал сухо: — Ну, об этом потом. А сейчас у меня к тебе дело…
В это время вошел секретарь. Сверкая лысиной в солнечных лучах, бьющих из окна, что-то прошептал Кобе.
— Зови, — сказал тот.
И они вошли. Первым был Менжинский, руководитель нашего ОГПУ.
Я не видел его со времен Берлина. По партийному обычаю мы с ним обнялись и поцеловались.
Он уселся, тяжело дыша и поглаживая пышные усы. К астме, как я узнал потом, у него добавилась беда с позвоночником.
Следом за ним в кабинете появился еще один. Худой, с длинным носом, до смешного похожий на ищейку. У него тоже были усы, точнее, какие-то продувные усики… И если Менжинский, даже согнутый, сохранял осанку барина, то этот радостно демонстрировал лакейство. По мере приближения к столу он стал как-то уменьшаться, съеживаться, лицо его нелепо расплылось в улыбке…