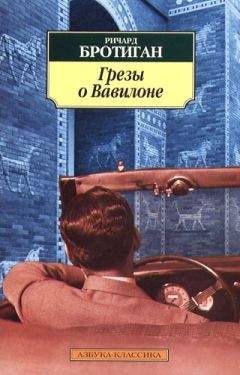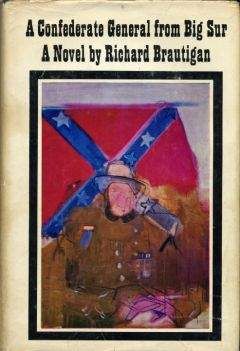Ианте Бротиган - Смерть не заразна
Черный ход в квартире, заваленный чуть ли не под потолок годовыми подписками «Сан-Франциско Кроникл», представлял собой жуткое зрелище. Отец читал каждый день свою газету, а потом относил и складывал в общую кучу. Не знаю, почему он их не выбрасывал. Иногда я, крепко держась за перила, пробиралась мимо этих завалов по неосвещенной, крашенной палевой краской нижней площадке на задний двор.
Там, на заднем дворе, устраивали ночные концерты кошки, и отец вел с ними непрекращавшуюся войну. Я долго и упорно этих кошек искала, но ни разу не только не увидела, но даже не услышала. Зато у меня до сих пор хранится будильник, которым как-то ночью отец в них швырнул. Будильник этот был большой, черный, похожий на подушечку жевательной резинки, с зелеными, в стиле «ар-деко», цифрами и металлической, серебристой задней стенкой. Много лет он простоял на подоконнике рядом с отцовской кроватью. Я любила его заводить.
— Не перекрути, а то пружина лопнет, — говорил он. За мной он следил, чтобы я была с часами поосторожней, а сам взял и швырнул их в окно.
В кухонном буфете, в отличие от холодильника еда водилась: консервированный острый перец, сардины и растворимый кофе. Там же лежали несколько жестяных тарелок, белых, с нарисованными фруктами. Иногда отец открывал банку сардин и выкладывал на тарелку. Разглядывать сардинки мне нравилось почти так же, как и есть.
У отца всегда были невероятно чистые руки. Он словно бы дал зарок никогда их не пачкать и часто, вытянув перед собой, изучал пальцы, переворачивал, разглядывал ладони и опускал, довольный их безупречностью, как Мери Поппинс. Мыть руки у него в доме мне полагалось чуть ли не перед каждым занятием — прежде, чем взять какую-нибудь бумажку или же сесть за машинку, — и, конечно же, после приезда и перед отъездом. Смотреть на мои руки, вечно в каких-нибудь пятнах, для него, наверное, была мука, но он никогда не делал мне замечаний. Он просто сам всегда мыл руки большим куском белого мыла и меня отправлял в ванную за тем же самым. Иногда, в целях экономии времени, так как я если шла в ванную, то в коридоре вечно на что-нибудь отвлекалась, он посылал меня в кухню, и тогда я отмывала очередные пятна розоватой жидкостью для мытья посуды под названием «Айвори».
Во встроенном шкафу, внизу, сразу под «музейной» коллекцией, в узкой картонной коробке хранились фотографии времен моего младенчества. Я любила раскладывать их на полу и рассматривать маму, отца и себя. Отцу это было неприятно. Фотографии напоминали ему о том будущем, какое они с мамой для меня готовили и которое так и осталось в мечтах.
— Ты мне мешаешь, — сказал он однажды.
Я обиделась, пошла искать себе новое место, чтобы еще чем-нибудь заняться, и не нашла. Везде, кроме кухни, в углах лежала комьями пыль, валялись монеты. Монеты я подбирала и накопила в четвертачках целое, как мне казалось тогда, состояние. В одной комнате стояло огромное пыльное кресло, больше похожее на декорацию для фильма ужасов, чем на мебель. В это кресло никто никогда не садился. Я долго его боялась и считала, что раньше оно жило в доме, где водятся привидения. Кресло было гобеленовое, с прямой спинкой и резными, в завитушках, ножками. Через несколько лет у него появился хозяин — птичка из папье-маше по имени Уиллард. Нахальный Уиллард впервые возник на обложке книги «Уиллард и его кегельбанные призы». Я его полюбила, а когда Уиллард прославился, мы стали брать его с собой.
— Даже птичке порой не мешает проветриться, — говорил отец.
Мне было, наверное, уже лет семнадцать, когда как-то вечером Уиллард решил отправиться вместе с нами в дом Курта Джентри, куда мы с отцом были приглашены на обед. Жене Курта, теперь давно бывшей, он не понравился: он ни за что не желал скромно сидеть в уголке. Он хотел сидеть как все, за столом, и пить из собственного стакана, и, разумеется, виски. Конечно же, я прекрасно понимала, что Уиллард не настоящий и все это отцовские выдумки, но отчасти я все еще оставалась ребенком, и Уиллард для меня был все равно живой. Я нисколько не смущалась его выходками и с любопытством ждала, попросит он десерт или нет. Бедный Курт едва не рехнулся, пытаясь одновременно ублажить моего захмелевшего отца и не поссориться с женой, которая любила, чтобы обеды у них проходили по высшему разряду и без сюрпризов.
В кабинете отца, где я спала, по ночам мне одной было страшно. Отец оставлял в коридоре свет, мне нравились моя лежанка, сооружавшаяся всякий раз, когда я приезжала, и свежий запах чистого постельного белья. Но я все равно подолгу пролеживала без сна на своем матрасе, втиснутом в узкий проход между книжным шкафом и письменным столом, и дрожала от страха. Страх этот появился, когда мне было лет восемь, после одного разговора о смерти.
— Ужасно странно, что я дожил до тридцати лет, — сказал отец, прихлебывая кофе из своей коричневой кружки. — Никогда не думал, что доживу.
Меня тогда это потрясло, и даже теперь я не понимаю искреннего изумления, с каким говорил отец, — будто поверить не мог, что все еще жив, что сидит в своей кухне и мы разговариваем. С того дня я подолгу боялась уснуть. Если уж мой всемогущий отец удивляется, что не умер, то откуда же мне, маленькой девочке, знать, остановится у меня во сне сердце или нет.
Когда мне было одиннадцать лет, отец купил телевизор. По воскресеньям я притаскивала его в кабинет, устраивала из своего матраса и одеял уютное гнездышко и смотрела утренние передачи, чаще всего фильмы про мамашу и папашу Кеттл. Тогда в кабинете жили они.
Детских книг у отца не водилось. Сейчас я едва ли не рада этому. Иначе я никогда не прочла бы «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид».
В 1974 году, когда неизвестно зачем прямо напротив отцовского дома начали строить автомобильный туннель, он, наконец устав от шума, решил поменять квартиру. Едва он съехал, все пошло вкривь и вкось. Отец начал пить запоями. В квартире на Гири-стрит у него был дом, и ему было там спокойно. А для меня там был дом отца, я всегда знала, где он, и тоже была спокойна. Иногда я задаю себе вопрос: если бы отец не уехал с Гири-стрит, покончил бы он с собой или нет? Возможно, живи он и дальше в той дешевой квартирке, все сложилось бы по-другому.
Коллекция его вся, кроме Уилларда, куда-то пропала. На мои вопросы отец отвечал: «В чемоданах». В новых домах мне нравились и новые кухни со сверкавшим линолеумом, и кабинеты, где не было ничего зловещего, и нормальная мебель, на которой можно было сидеть без боязни съехать в дыру, и потолки, откуда не свисала огромными лохмами краска. К тому же мне очень нравилось спать на нормальном диване.
Того дома на Гири-стрит больше не существует, на его месте стоит новый кондоминиум, и о прошлом напоминает только красный вагончик кафе. Много раз я там брала из окошка порцию жареного картофеля или хот-дог, приправленный чили, — в первый раз робкой шестилетней девочкой, в последний беспечным подростком, — но когда бы я туда ни пришла, больше всего на свете я верила в силу и всемогущество моего отца.