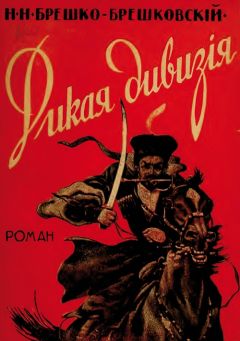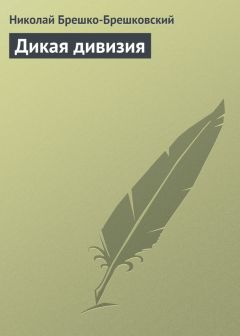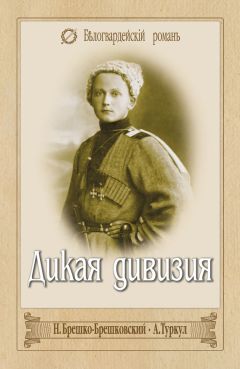Николай Богословский - Тургенев
Профессор Погодин читал всеобщую историю монотонно, бесцветно и скучно.
Преподаватель риторики Победоносцев, по выражению Тургенева, держал студентов на ломоносовских похвальных речах и задавал им «хрию»[3].
На переходных экзаменах Тургенев получил общую сумму баллов тридцать шесть, и в числе шести студентов из тринадцати был переведен на второй курс.
Но продолжать учение в Московском университете ему уже не пришлось: родители Тургенева решили переехать в Петербург. Старший их сын поступил там в гвардейскую артиллерию, и отец хотел, чтобы братья жили вместе.
ГЛАВА III
ПЕТЕРБУРГ. ДРУЖБА С ГРАНОВСКИМ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ. ГОГОЛЬ. ВСТРЕЧИ С ЖУКОВСКИМ, ПУШКИНЫМ, КОЛЬЦОВЫМ
Летом 1834 года, по приезде в северную столицу, Тургенев подал прошение о переводе на филологическое отделение философского факультета Петербургского университета.
Едва успели Тургеневы обосноваться в Петербурге, как семью постигло несчастье: Сергей Николаевич тяжело заболел и 30 октября умер от удара, в отсутствие жены, находившейся в это время в Италии. Безвременная смерть его была большим потрясением для близких. Даже по прошествии нескольких лет Варвара Петровна говорила о смерти Сергея Николаевича с такою болью, как будто это случилось только вчера. Чаше стала она надолго уезжать в Спасское и жила там и мире своих воспоминаний, то отрадных — о совместных путешествиях в далекие страны, то горьких, окрашенных чувством острой ревности и страха за будущее.
«Отцов кабинет тих и уединен, никто в него не войдет без ведома, — писала она Ивану. — Это моя могила, тут я молюсь за отца и с ним беседую мысленно. Тут занимаюсь делами, тут живу прошедшим… воспоминаниями… Только на Смоленском кладбище[4] бываю я счастливой. Ох!.. я забыла твою просьбу… Ne pas blesser votre sensibilité» [5].
Она бережно хранила каждую вещь мужа, его портреты, книги… И когда однажды Иван Сергеевич обратился к матери с просьбой навести какую-то справку в путеводителе, она ответила: «Кажется, новый ты взял, а старый, с которым мы вояжировали с отцом, у меня. Мне очень тягостно, дорогой друг, взглянуть еще раз… то карандашом черточка, то ногтем, то уголок загнут, — все это, как стрелы в сердце. Я хотела тебе и о портрете тоже сказать. Например, у меня есть похожий портрет отца и непохожий. На непохожий я взгляну, скажу — c’est ne pas lui[6]… Но! — на похожий я не могу взглянуть, вся кровь прильет к сердцу. Он в отсутствии навсегда…»
Незадолго до смерти отца Тургенев начал работать над драматической поэмой «Стено». Это был один из первых его поэтических опытов. Небольшие стихотворения, написанные, по-видимому, еще годом раньше в Москве, как и эта фантастическая драма, отмечены печатью романтизма, навеянного чтением Байрона. Сюжет драмы взят из итальянской жизни. Она полна мелодраматических эффектов во вкусе Кукольника — тут и убийства, и безумие, и самоубийство. Монологи героя о тщете человеческих усилий перед лицом смерти проникнуты безысходным пессимизмом.
Позднее Тургенев не мог без иронической улыбки вспоминать о первых пробах своего пера. «Стено» он назвал «нелепым произведением, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Так оно и было, конечно. Но в пору написания драмы, да и некоторое время спустя юному Тургеневу ранний плод его музы был дорог и, вероятно, казался чем-то значительным. Во всяком случае, через два года он решился представить свою поэму на суд профессору Плетневу, лекции которого слушал в университете.
К первому году жизни Тургенева в Петербурге относится его встреча с поэтом Жуковским, надолго оставшаяся ему памятной.
Произошло это при следующих обстоятельствах. Варваре Петровне захотелось напомнить о себе Василию Андреевичу. Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку, на которой была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече, и послала сына с нею к Жуковскому в Зимний дворец, наказав ему назвать себя, объяснить, чей он сын, и поднести подарок.
Пора восторженного преклонения Тургенева перед прославленным автором «Ундины» и «Громобоя» уже миновала, но все-таки он очень волновался, готовясь исполнить поручение матери. «Когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце, — писал впоследствии Тургенев, — когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, — мной овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, — я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука… и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери, и только протягивал и поддерживал обеими руками — как младенца при крещении — несчастную подушку… Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему, наконец, в чем было дело, — и, как только мог, бросился бежать».
Несмотря на такой неожиданный исход свидании с поэтом, Тургенев, придя домой, «с особенным чувством припоминал его улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения».
«Певец таинственных видений», рисовавшийся прежде воображению мальчика болезненно худым и бледным, предстал перед ним совсем иным: он заметно постарел, в фигуре было уже что-то от осанки придворного, полное лицо дышало умиротворением и спокойствием. Для Тургенева было достаточно этой минутной встречи, чтобы впоследствии несколькими штрихами набросать мастерский портрет стареющего поэта, так знакомый всем по изображению Брюллова «Он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета…»
За два учебных года, проведенных в Петербургском университете, Тургенев успел более всего сблизиться с профессором П.А. Плетневым. Характеризуя его, Тургенев говорит: «Как профессор русской литературы, он не отличался большими сведениями: ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, — умел заинтересовать их… Притом его — как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего «Онегина», — окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали эти стихи: «Не мысля гордый свет забавить» и т. д.»[7].