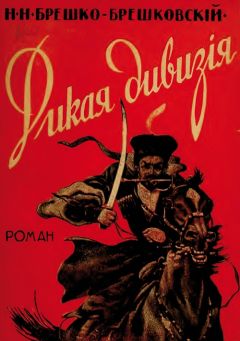Николай Богословский - Тургенев
Начало тридцатых годов для Московского университета действительно было ознаменовано пребыванием в его стенах почти одновременно таких замечательных людей, как Герцен, Огарев, Белинский, Станкевич, Лермонтов, Гончаров Тургенев.
Отмечая огромную роль Московского университета в истории русского образования, особенно после 1812 года когда для Москвы и для университета началась новая эпоха, Герцен говорит в «Былом и думах», что Московский университет все больше становился средоточием русского образования. «В него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».
В памяти юного поколения еще свежи были отголоски восстания декабристов, а сознательная жизнь его началась в ту пору, когда правительство Николая I все более усиливало гнет, стремясь подавить всякое проявление свободной мысли в стране. Власти были напуганы крестьянскими волнениями, народными бунтами, вызванными распространением холеры в 1830 году, польским восстанием 1830–1831 годов, отзвуками июльской революции во Франции…
На университеты Николай I смотрел как на рассадники вольнодумства а Московский университет давно уже обращал на себя его особое внимание. Ему памятны были Полежаевская история (1826 г.), и изгнание студентами из аудитории профессора- реакционера Малова, и революционный сунгуровский кружок и «дело» студентов-поляков, обвиненных в связях с мятежниками… За год с лишним (с августа 1832 гола по ноябрь 1833) из университета было исключено более пятидесяти студентов (в том числе и Белинский). Кроме того, иным студентам просто «советовали» подать прошение об увольнении, что являлось, в сущности, тем же насильственным удалением, только мало-мальски благовидно обставленным. Так произошло с Лермонтовым. В «Списке студентов словесного отделения Московского университета на 1832 год» против фамилии поэта значится: «Уволен. — Консилиум абеунди» (то есть предложено уйти).
Университетское начальство всячески стремилось освободиться от неблагонадежных лиц.
1 ноября 1833 года лейб-гвардии отставной штабс-капитан Николай Алексеевич Теплов дал поручительство, что студент Иван Тургенев во время своего нахождения в университете будет являться в предписанной от начальства форменной одежде и своим поведением не нанесет начальству никакого беспокойства.
А через месяц и самому студенту пришлось дать подписку в том, что он «ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежит и никаких сношений с ними не имеет».
В Московском университете Тургенев пробыл недолго — всего лишь год. Не все профессора, которых довелось ему здесь слушать, могли почесться украшением университета. Среди них были и защитники старины, и буквоеды, и реакционно настроенные ученые.
Однако вся атмосфера университета способствовала пробуждению в передовом студенчестве духа свободомыслия. На это и указывал по прошествии двух десятилетий Герцен, говоря в «Былом и думах» что хотя преподавание в университете в его время было скуднее, чем в сороковых годах, однако университет и тогда возбуждал в умах юношей вопросы, научал спрашивать, потому что «больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений… Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского. И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей», — заключал автор «Былого и дум».
Русская словесность, всеобщая история, физика, латинский и французский языки — вот предметы общеобразовательного курса, которые Тургенев прослушал за год.
Его глубокий интерес к философии, вскоре ясно обозначившийся, зародился, должно быть, в стенах Московского университета. Особое внимание юноши к этой науке первоначально возбудили, вероятно, лекции одного из выдающихся профессоров того времени— М. Г. Павлова. По расписанию он читал физику и сельское хозяйство, а по сути дела был распространителем и пропагандистом философского учения Шеллинга и его последователей.
Несмотря на то, что Павлов стоял на идеалистических позициях, положительная роль его заключалась, по свидетельству современников, в том, что он своим талантливым изложением учения Шеллинга будил в воспитанниках университета и самостоятельный интерес к философии. Философская наука в николаевской России была в загоне, кафедру философии в Московском университете упразднили еще в 1826 году. Поэтому большой смелостью со стороны Павлова было уже одно то, что он строил свой курс на философской основе. «Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. — говорит Герцен. — Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» Это чрезвычайно важно; наша молодежь вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления; одни семинаристы имеют понятие о философии, зато совершенно превратное».
Лекции Павлова открывали возможность дальнейшего самостоятельного изучения философских систем. Такие слушатели его, как Герцен, Огарев, Белинский, не останавливались, разумеется, на усвоении идеалистической философии Шеллинга, а шли дальше, самостоятельно преодолевая ее, преодолевая философию Гегеля, чтобы в конце концов поднять на огромную высоту русскую философскую мысль в ее движении к идеям социализма.
Рассматривая в «Очерках гоголевского периода русской литературы» итоги этого сложного пути духовных исканий русских деятелей тридцатых-сороковых годов, Чернышевский писал: «Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде… С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике Гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету».
Там же отметил он и важную подготовительную роль, которую сыграли на этом пути лекции Павлова, оказавшего, по его словам, «значительное влияние на молодое поколение, воспитавшееся в Московском университете…»[2].
Курс русской словесности читал Давыдов. Красивые фразы, за которыми ничего не крылось, шаблонные оценки художественных произведений, отсутствие убежденности и искреннего воодушевления — все это заставляло студентов только зевать на его лекциях. «Ничто о ничем, или теория красноречия», — так называли они его курс.