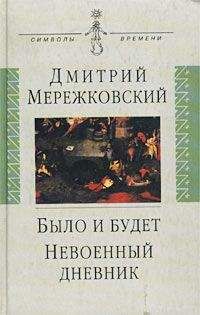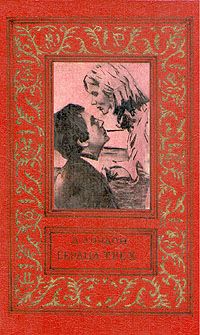Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916
– Вот ты черт! С тобой не сговоришься. Нельзя его писать – говорят тебе, разве девушке такое дело пишут?
– А он-но хорошо будет… Ты пиши, уж я знаю, что хорошо… Ну.
И снова заскрипело перо. Березнов диктовал:
Коли что с тобой случится,
Так и знай, что не прощу,
За твое за преступленье
Как мне надо угощу.
– Эх. – только вздохнул Чибисов и провел рукой по мокрому лбу. Глаза у него было полны неподдельного страданья, и видно было, что какая-то необходимость толкает его идти против собственной воли, и горько ему и тяжело от этого разлада.
– Теперь дальше, – авторитетно заявил Березнов. – Какое-нибудь слово от себя, самое, так сказать, простое, а потом опять страха пустим.
Покорно согнулся Чибисов над бумагой и занес туда какое-то свое простое слово. А Березнов продолжал:
Коль ребенок приключится,
Я ребенка утоплю,
А тебя убью кинжалом,
Потому что так люблю.
Чибисов просиял. Загорелись глаза, рука быстрей забегала по бумаге, и весь он как-то задергался, заерзал по полу:
– Ну да, это.
– Вот то-то и оно, – объявил снисходительно Березнов, – я уже знаю. Коли я начну, так все проведу по порядку.
– Так. А я почем знал? – извинялся Чибисов. – Там пошло нехорошо, а тут – вот оно что. Эх, ты!.. Эх!..
Они вместе писали любовное письмо зазнобе Чибисова, которая уж два месяца не присылала ему из деревни ни слова. Парень ходил как в воду опушенный. Поведал свое горе Второву, и тот взялся выручить товарища… Вот теперь сидели они и клеили жестокий укор, заносили свои ласковые хорошие слова и скрепляли их душещипательными стихами.
Один за другим пролетали аэропланы, и трудно было различить, где тут наши, где неприятельские. Стрелять перестали; они ушли за облака, и мы совершенно потеряли их из виду. Но вот сбоку появился один, белый, словно шитый из полотна, до глянцу натертого воском. Летел он прямо на нас. Заработали зенитные батареи, усеяли небо пуховыми реющими шубками. Команда ударилась врассыпную. Старики попрятались кто в дом, кто на конюшню, а молодые все остались на дворе. Почему так? У одних – целая семья на руках, любовь, забота, а у других – у других впереди только своя жизнь: «Родительское сердце в детях, а детское в камушке».
Может быть, поэтому? И всегда случается так, что молодые пренебрегают опасностью, а старики прячутся от нее. Забились вот в конюшню и сообщают там друг другу разные страхи.
Когда в речку, где они поили лошадей, упал случайно осколок снаряда и, шипя, разбросал брызги, они едва не пустились бежать, оставив и лошадей и все на свете. А молодые остались.
4 сентября
Над Воровкой каждый день кружился неприятельский аэроплан. Наши летчики поднимались, прогоняли, мирно опускались в свои ангары. Но вот появился новый летчик Никон Пущин – человек смелый, не раз уже побывавший в кругу неприятельских белых барашков, не раз утекавший на всех парах от жестокой неприятельской погони, побросавший много бомб, принесший немало ценных сведений. Никону было всего 22 года. Огромная голова в шапке черных волос как-то грозно всегда опускалась на грудь, словно во лбу у него была тяжелая, гнетущая лава. И как-то странно было видеть такую огромную волосатую голову на его жиденькой и нежной фигуре. Бледно-белое лицо, без морщинки; высокий лоб, словно водное лоно, вздрагивал при малейшем волнении, а глаза – эти черные, широкие, всегда опущенные глаза – вскидывались на собеседника и будто спрашивали: «Ну зачем ты меня раздражаешь? Мне и так невесело. Оставь…» И видел собеседник, что Никону и впрямь невесело; вспомнил, что веселым его и не видал никогда; что в спокойствии его чувствовалось больше силы и тоски, чем покоя и радости. И замолкал. А Никон барабанил длинными, бледно-розовыми пальцами по краю стола и не спускал упорного, тяжелого взгляда с какого-то тайного, ему только видимого образа. О чем он думал? Господь его знает. Он всегда так мало и так неохотно говорил о своих думах. Но летчики любили Никона за то, что редкие слова его были нежны; что в молчании его была скрыта сила; за то, наконец, что он прекрасно знал свое дело и отваживался на такие дела, которые другие считали безумием. Они бежали от безумия, но уважали, завидовали и изумлялись человеку, который принимал его и выносил на своих плечах. Поэтому никто не удивился, когда Никон объявил, что завтра поутру взлетит один на борьбу с немецким летчиком. Ему говорили, что далеко еще нам до немца по высоте и по бегу; что опасность слишком большая, а пользы нет; что не имеет, наконец, он нравственного права – он, один из лучших летчиков, – жертвовать собою какой-то мимолетной, безрассудной затее; что силы его пригодятся на большое и нужное дело.
Никон молчал, упершись взором куда-то во тьму, за окно немигающим, тяжелым и жутким взором. Подняться решили втроем – от троих и немец улетает. Посмотрел на них Никон и сказал: «Конечно. Знаю. Улетит, коли все подымемся. А вы дайте одному, хочу силы испытать… Обидно мне.»
И в голосе была какая-то скорбная жалобная струнка. Услышали все эту струнку и почувствовали вдруг, что ведь и всем им обидно, давно обидно на свою беспомощность, только силы не хватало на такое вот безрассудство, какое затеял теперь Никон. Шелохнулось в душе какое-то странное, новое чувство. Здесь были и гордость за смелого товарища, и благодарность ему за то, что высоко держит свое знамя, и радость, потому что Никону всегда можно верить, на Никона можно положиться. Сопровождать его вызвался молодой француз, недавно приехавший в Россию и ни слова не говоривший по-русски. Но дело облегчалось, потому что сам Никон прекрасно владел французским языком. Звали француза Адольф. Белокурый, голубоглазый, с розовым девственным лицом – он, словно виноватый, смотрел на собеседника, когда тот, забывшись, резал ему что-нибудь по-русски.
Потом обычно дотрагивался до Никона и просил его разрешить недоуменное положение. Разговорился и Никон. Решено было рано поутру вчетвером тщательно осмотреть аппарат, подвинтить, смазать, натянуть что следует. Вечер прошел в каком-то тревожном и напряженном веселье. Шутили, но в шутках было не столько смеха, сколько мысли; смеялись, но смех не удавался. А возвращаться к затее было тяжело. Каждый полон был только ею одной и о ней только думал. Старался проникнуть в результаты; пытался представить себе всю картину предстоящего боя; отгонял назойливую, жуткую мысль о трагической развязке. Разошлись. Никон еще долго что-то объяснял Адольфу о том, как надо держаться, если аппарат накренится при быстром повороте; посвящал его в особенности и странности своей машины, в привычки и в приемы немецких летчиков; предупредил, что опасность имеется несомненная, потому что силы неравные; вся надежда на личную сообразительность, на счастливую случайность, на оплошность врага. Адольф выслушал молча объяснения Никона и объявил, что страха нет, что в Никона верит и постарается оправдать его надежды. Товарищи уже спали, когда Никон в одном белье, босой, робко ступая на холодную росную землю, пробрался в ангар, к своему аппарату. Лежа в постели, он все припоминал, что где-то и что-то в его машине неладно. Он заметил это при последнем спуске, когда, мягко прильнувши к земле, аппарат издал вдруг незнакомый, фальшивый звук. Торопясь, измученный, захолодевший, он мельком взглянул под крыло и увидел, что маленькая гайка сбилась на сторону и винт скользит по краю – его выбило снизу осколком снаряда. Теперь он никак не мог найти эту гайку, потому что слесарь без его ведома поставил новую и пригнал нарезы. Долго шарил и щупал он под крылом, освещал его со всех сторон электрическим фонариком, но найти не мог. И на душе стало как-то неспокойно. По виду все благополучно, а вот эта проклятая гайка мучит и мучит. Подошел и снова посветил. Потом ощупал холодные кольца, погладил винты, обшарил острые, граненые гайки…