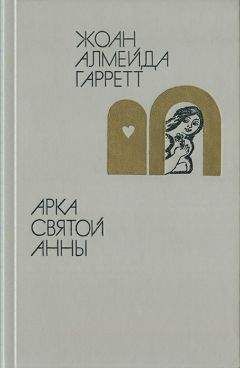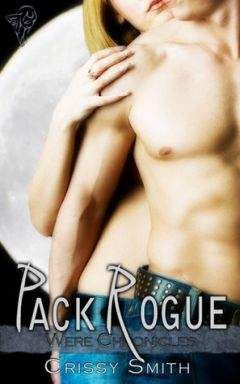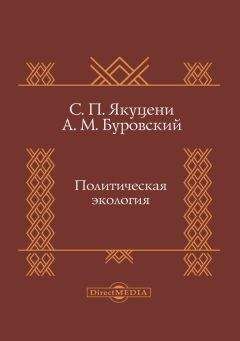Софья Пилявская - Грустная книга
22 января 1942 года состоялась премьера «Кремлевских курантов». Это стало возможным благодаря заботе и любви к Художественному театру хозяев города и самоотверженному труду всех, кто составлял в то время коллектив театра.
Необычен был зал на премьере в Саратове — кроме почетных гостей города, почти сплошь военные. Летные комбинезоны, гимнастерки с нашивками всех родов войск — погонов еще не было. Уже много было раненых, виднелись белые повязки. Все это мы увидели на поклонах после спектакля. Зал аплодировал стоя, слышались слова благодарности и привета Художественному театру и актерам. В тот вечер мы были счастливы. Вскоре вышли рецензии, две или три. В одной меня ругали, за что — не помню, но что ругали — помню точно.
Во время нашего пребывания в Саратове «Куранты» шли аншлагами «в набой», даже на полу сидели. Фронт был сравнительно близко, а военным отказа быть не могло.
Через короткое время стало известно, что Грибову, Ливанову, Хмелеву и, конечно, Немировичу-Данченко присвоена Сталинская премия. От Владимира Ивановича Грибов получил телеграмму: «Испытываю полное удовлетворение, что увенчалась полным успехом Ваша великолепная артистическая настойчивость охватить роль синтезом высоких идей и тончайших сценических приемов. Вл. И. Н.-Данченко».[14] По своей скромности Алексей Грибов редко делился этой высокой похвалой своего учителя.
…Однажды Иван Михайлович Москвин сообщил, что в Саратов прибывает военная делегация поляков и что его просили принять их в театре как можно торжественнее. В день их прибытия шли «Три сестры». Москвин распорядился, чтобы при нем «хозяйкой» была я. Николай Иванович и я, узнав об этом, впали в смятение, а моя наивная мама в восторг. Я пошла к Ивану Михайловичу просить, чтобы он меня «отменил», а он в ответ: «Надо — и будешь».
И вот меня стали готовить. У меня было закрытое вечернее платье. Лизочка надела мне на палец свое дорогое старинное кольцо. Москвин был в черном костюме, при орденах.
Часа за полтора до начала спектакля все боковые помещения были заперты и на дверях крест-накрест государственные флаги — наши и польские, а за этими дверями — изолированные «иждивенцы» (им был приказ: «Ни звука!»). В буфете накрыли стол с несколькими приборами, грудами толстых бутербродов, бутылками и бокалами.
Примерно за час до начала спектакля с улицы донесся шум. Москвин и я встали у дверей для встречи: около Ивана Михайловича был еще Калужский. Оркестр играл «Еще Польска не сгинэла» и наш гимн. Почетных гостей было двое: пожилой человек в военной форме крупного чина и высокий красавец, весь в коже — полувоенный костюм без знаков различия. Сопровождали их (к моему ужасу) Вышинский и Эренбург, а за ними шло очень много военных поляков, они шаркали, звеня шпорами.
У открытых дверей в буфет Иван Михайлович сказал несколько приветственных слов и представил меня: «Наша артистка Софья Станиславовна Пилявская». Высокие гости изысканно поздоровались, приложившись к руке. Я попросила к столу. Польские офицеры мгновенно стали вдоль стен. Евгений Васильевич Калужский тоже стоял. Мы поздоровались с Эренбургом, а когда ко мне подошел Вышинский со словами: «Мы, кажется, знакомы?» — я ничего не ответила, не могла.
Польским гостям я сказала, что язык понимаю, но плохо говорю по-польски, они закивали и сообщили, что и они также понимают русский, но им легче говорить на родном языке. Началась «светская» беседа о «Трех сестрах», где участвует цвет Художественного театра, о красивом Саратове и чуть ли не о погоде. Толстых бутербродов высокие гости не тронули, а вино из бокалов прихлебывали.
По третьему звонку их повели в зрительный зал, а мы остались ждать антракта. Опять та же «светская беседа»: они по-польски восхищались игрой артистов, а я по-русски что-то им отвечала.
Иван Михайлович разговаривал «для всех», но больше с Эренбургом и Вышинским. И так до конца спектакля, когда мы с ними простились и они пошли к машинам, а мы — за кулисы.
Флаги сняли, двери открыли, и мамы с детьми и горшками продолжали свою привычную жизнь. Несколько дней после этого приема встречавшиеся со мной на улице польские офицеры становились навытяжку, щелкая каблуками, отдавали честь.
Высокими польскими гостями были генерал Сикорский и бригадный генерал Андерс. Много позднее стало известно, что Сикорский погиб в авиакатастрофе, якобы умышленной, а Андерс «продавал Польшу» в Англии.
А в тот день нас расспрашивали за кулисами, шутили, и мы довольно весело, держась друг за друга (в Саратове уже ввели затемнение) пошли к себе. На первом этаже кто-то протянул мне фронтовое письмо-треугольник, переправленное из Москвы. Я прочла: «Товарищ артистка, пишет вам… сообщить, что ваш брат Станислав погиб 24 октября, я сам видел. Я тоже чуть не погиб. С приветом». И подпись. Я осела на ноги, и меня потащили в большую комнату, где было что-то вроде общежития. Сквозь тоску и ужас я поняла, что от мамы надо скрыть известие, и тут же кто-то из товарищей побежал предупредить. Я знала, что мама ждет моего рассказа о встрече поляков. Немного отдышавшись и напудрив лицо, я пошла к себе, попросила, чтобы Раевских и мужа не было. Я начала подробно рассказывать о встрече, переодеваясь в нашем закутке. Затем села на диван рядом с ней, продолжая говорить, а наши иногда заглядывали в дверь. Ссылаясь на усталость, велела ей ложиться, а я на минутку в третий номер. И мама, счастливая и гордая мной, согласилась, так и не заподозрив беды.
Когда я вышла в коридор, у меня опять отказали ноги, но тут был муж и Раевские.
Друзья из третьего номера ко мне были очень внимательны, заставили что-то глотнуть. Не утешали, кто-то сказал: «Ну, а теперь поплачьте». Но я была словно ушибленная. Сидели мы долго, пока мама не заснула — Лизочка зашла и сказала, что она спит. Можно было брести к себе. Ночь была трудной — мужу было плохо, но он крепился, а я очень боялась утра, боялась выдать себя маме.
Вечером шла «Каренина», я играла жену испанского посланника, гримировалась в единственной отдельной гримерной вместе с Тарасовой. Алла Константиновна все говорила мне: «Зосечка, как вы смогли? Я бы не смогла!» И она бы смогла. Если очень нужно, то можешь все.
Довольно долго я боялась, что кто-нибудь скажет маме. Были такие, которым было бы любопытно, были даже попытки: «Давайте вместе, вам будет легче». Но с такими «беседовали» наши мужчины. Много времени спустя мама сказала мне, что часто вспоминает, как особенно ласковы и предупредительны были к ней. «Ты помнишь? Так было приятно!» Если бы она тогда узнала, то не выжила бы. До самой Своей смерти она его ждала.