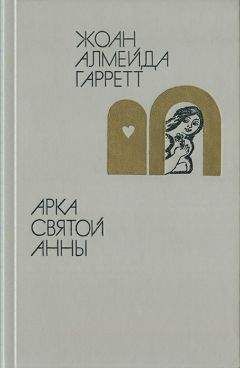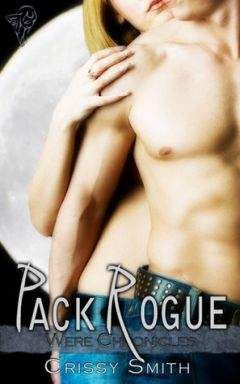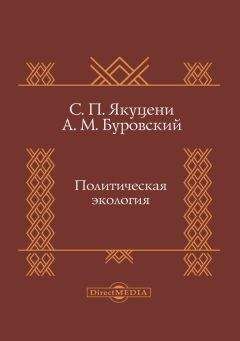Софья Пилявская - Грустная книга
Работа над ролью Ирины была для меня ответственной и очень напряженной. Когда «Федора» не мог почему-либо репетировать Хмелев, за него читал наш замечательный суфлер Алексей Касаткин. Он в молодости был актером в провинции и теперь с наслаждением лил слезы в монологах, а безумно смешливый Василий Орлов, мучительно сдерживаясь, просился покурить, и Блинников тоже. Но такие репетиции были редкими.
Если не ошибаюсь, наш занавес открылся для публики во второй половине ноября. Эти спектакли проходили с большим успехом. А параллельно мы готовили премьеру «Кремлевских курантов». Декорации строили сами актеры — все, кто умел держать молоток и рубанок. Расписывал декорации Владимир Владимирович Дмитриев, ему помогали артисты Василий Петрович Марков и Николай Павлович Ларин.
Ежедневно проходили шефские концерты в госпиталях и воинских частях. Все работали безотказно, а существование наше было, как и у всех, довольно трудным. Но, видно, правду говорят, что в беде человек (если он человек) становится лучше и сильнее.
К этому времени из Москвы стал поступать театральный багаж: корзины с костюмами, обувью, реквизитом. Для разборки этого багажа создавались «тройки» — двое разбирали, а третий записывал. Как правило, это происходило поздним вечером, после спектаклей. Я была в «тройке» со Станицыным и женой Карева.
Нашим комендантом был актер Сергей Бутюгин. Душ топили по субботам, с утра — женщины, потом — мужчины. Кроме одного душа на каждом этаже находилось по две уборных (теперь почему-то называющихся «туалетами») и при них по две раковины. Около этих раковин ночью, также по расписанию, по двое, стирали белье, грея воду на керосинках. Два корыта были общественными.
Однажды на облупленной сырой стене мужского умывальника появилась записка: «Вчера я забыл здесь старую мыльницу с маленьким кусочком мыла — надо бы вернуть. Иван Москвин». Уж не знаю, вернули ли, но записка эта сейчас в музее театра. Ее туда отдал мой муж.
Было еще и подобие буфета. Там трудились Ольга Сергеевна Бокшанская с Раисой Николаевной Молчановой — они иногда выдавали (не продавали!) какое-то подобие бутербродов или просто по куску хлеба. Но это полагалось только сотрудникам театра, «иждивенцы» в этом случае в расчет не брались.
Примерно в это время произошел факт, о котором я не могу не рассказать.
Как бы там ни было, а жизнь есть жизнь, — у нас было, как у всех: и собирались, и говорили по душам, и пели под гитару.
Пела и я, чаще дуэтом с Кудрявцевым, иногда с Ливановым, а то и одна. Хорошо играл на гитаре и Дорохин.
Эти «посиделки» почти всегда бывали в номере у Ливанова и Петкера, и почти всегда там бывал Владимир Владимирович Дмитриев. Для таких «сидений» с пением нужно было «подогреться», наши кавалеры ходили «на охоту». Из драгоценных запасов Дорохина мы с Лизочкой Раевской вплоть до Нового, 1942 года не раз перепрятывали и шампанское, и водку и итальянский вермут, и мужья наши, как ни старались, обнаружить ничего не смогли.
Однажды Ливанов, Петкер и мой муж отправились на очередную «охоту» и почему-то попали на товарную железнодорожную станцию Саратов-2.
На дальних путях из теплушек выгружали заключенных. Было их много, а охраны — только двое красноармейцев. И вдруг наши узнали в этой толпе Николая Робертовича Эрдмана и поэта Михаила Вольпина. Были они оборваны, Эрдман сильно хромал, а Миша его поддерживал. И получилось так, что наши незаметно их увели. Когда добрались до гостиницы, их укрыли в душевой. Выпросив у Бутюгина дров и разрешения согреть воду, их долго мыли, все, что на них было, сожгли в этой же топке, а мы с Лизой в это время собирали одежду. Дело осложнялось тем, что у Эрдмана на ноге было сильное нагноение, ему, как могли, перевязали ногу и привели растерянных «гостей» в наш номер. Мы постарались их накормить чем Бог послал, а Ливанов, Дорохин и Петкер пошли к Москвину и рассказали ему всю правду.
Иван Михайлович Москвин — этот уникальный человек — решил так: он пойдет к командующему Саратовским военным соединением, расскажет правду и попросит помощи и врачебной консультации для Эрдмана. Москвин не испугался, не рассердился и тут же отправился на это рискованное по тем временам дело, а наши гости, все еще растерянные, ожидали решения своей участи. Мы пока никому ничего не рассказывали, узнал только Дмитриев, пришедший, как всегда, в перерыве между работой.
Ждали мы долго, наконец Иван Михайлович явился. Он приехал в военной машине и, передав мужу какой-то документ, сказал: «Вези его в госпиталь и сразу обратно». Как Ивану Михайловичу удалось совершить это чудо, он не рассказал, а приказал готовить грандиозный концерт. Все, что только можно.
Уже к концу дня муж привез Эрдмана, ему прочистили рану, сделали перевязку, дали пару костылей и инструкции на первые дни. Потом его не раз возили к врачам.
Решено было так: Вольпина забирает к себе Дмитриев. Эрдман ночевать будет «валетом» на одной кровати с Ливановым, а кормиться у нас. Таким образом, во время еды больная нога Эрдмана покоилась на моем табурете.
Скоро история эта без подробностей стала известна. Концерт для военного начальства был действительно грандиозным — сделали все, что могли. Потом состоялся банкет с обильной едой и питьем. Уж не помню, были ли на нем наши «гости».
Конечно, каждый вечер все взрослые обитатели «Европы» собирались в коридоре у черной тарелки радио слушать сводку. Помню, как ликовали, услышав о том, что фашистское наступление на Москву провалилось. Кто-то плакал, кто-то обнимался, но все это тихонько, чтобы не помешать другим слушать.
Одно было горько: нас не любили (и это мягко сказано) жители окрестных сел и кое-кто из саратовцев. Однажды я стояла на рынке в очереди за картошкой (стоила она 50–60 рублей за килограмм). И когда я, в резиновых коротких ботиках, замерзшая, наконец подошла к возу, торговка сказала мне: «Проходи». Я стала спрашивать: почему? «Я сказала — проходи, курчава шуба!» (На мне была шуба из мерлушки.) И никто не вступился: все боялись, что она и им откажет. Зато некоторые, особенно профессура, относились к нам очень тепло, приглашали к себе.
Цены на рынке были чудовищные, а наша зарплата оставалась прежней. Я понесла в комиссионный одну из дорогих скатертей, и ее сразу схватила какая-то тетка. Не помню цены, но обед на другой день был приличный.
Заведовать хозяйством в основном приходилось мне, так как Лизочка работала и в репертуарной конторе после начала спектакля, и днем в билетной кассе — ее рабочий день начинался рано утром и кончался поздно вечером. Моя мама носила ей «обед» в кассу — Лизочку надо было поддержать, она была тяжело больна. Раевского сделали директором эвакуированного в Саратов ГИТИСа, а Дорохин с Петкером ставили в оперном театре «Пиковую даму». Все это кроме актерских обязанностей в нашем театре. Моя мама не была опытной хозяйкой, она помогала, как могла, дома. Таким образом, хозяйство и добывание продуктов падало на меня.