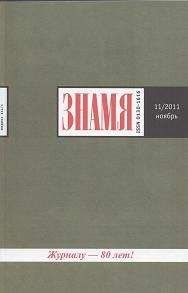Борис Мессерер - Промельк Беллы.Фрагменты книги
Белла ощущала биение пульса русской эмиграции. Судьба Марины Цветаевой, которая в такой высокой степени волновала Беллу, была отчасти и их судьбой.
Тем летним снимком: на крыльце чужом,
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дому. Одета
в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий отдельный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и гона.
Белла исторгала и обрушивала слова на зал, который не ведал, что такое может произнести человек, приехавший из Советской России. Слушатели сидели с глазами, полными слез.
Памяти Анны Ахматовой:
Я завидую ей — меж корней,
Нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
За судьбу быть не мною, а ей.
Стихи Беллы реяли в воздухе, и российская трагедия звучала в иллюминированном и расцвеченном тысячами огней ночном небе Парижа. Это был реквием по ушедшим поэтам-страдальцам, разделившим мучительную судьбу России.
Парижане слушали Беллу, затаив дыхание, боясь шелохнуться и пропустить хотя бы слово. В сердцах эмигрантов эти стихи отзывались эхом боли и становились связующей нитью между поколениями русских людей.
Переводы стихов на французский читала Одиль Версуа (Таня, сестра Марины Влади), известная актриса, много лет работавшая в театрах Парижа.
На вечере были все наши парижские знакомые: Марина Влади, Степан Татищев, Рене Герра, Миша Шемякин, Саша Туринцев, Муза Боярская, Наталья Ивановна Столярова, Покьюрет Вильнев, Серж Шмеман и многие другие. Вечер прошел с огромным успехом, было море цветов и много поздравлений.
Но в зале открыто присутствовали и сотрудники посольства, которые по окончании вечера подошли к нам и довольно строго спросили о наших планах на будущее. Кроме того, они вспомнили о выступлении Беллы в Институте восточных языков и сказали, что они сожалеют о том, что чтение стихов имело место быть в таком антисоветском гнезде, как Сорбонна, где студенты изучают Солженицына. В заключение беседы сотрудники посольства настойчиво рекомендовали нам встретиться в понедельник с товарищем Борисовым в его кабинете.
После вечера мы всей компанией отправились к Одиль Версуа в ее изумительный особняк на rue Universite, служивший когда-то резиденцией посла России. Пришло очень много народу, все были чрезвычайно возбуждены вечером, закончилось все это довольно бурным гуляньем.
После выступления Беллы нам действительно следовало встретиться с культурным атташе, чтобы уточнить возможность нашего выезда в США.
В понедельник, что важно для человека, верящего в дурные приметы, мы проделали уже известный нам путь на рю Гринель, где размещалось советское посольство, которое находилось за очень высокой оградой, характерной для парижских особняков XVII века.
Было утро — мы должны были прийти к девяти часам. Тем не менее мы с Беллой зашли в кафе прямо перед зданием посольства. Нам хотелось выпить по рюмке кальвадоса. Мы должны были это сделать перед предстоящим мучительным общением. Я не уверен, что страж посольских ворот помнил нас, но он как-то особенно придирчиво копался в моем паспорте, безграмотно пытаясь громко произнести мою труднодоступную для его слуха фамилию. Вдоволь насладившись игрой согласных и так и не справившись с их звучанием как единого целого, он разрешил нам войти внутрь посольского двора, куда через распахнувшиеся огромные ворота въехал на черном «мерседесе» сам товарищ Борисов.
Как и полагается артисту, исполняющему роль Злого гения, он был одет во все черное: черный костюм, черный галстук при белой рубашке, черные ботинки и черные очки. Мы поздоровались, и он рукой начертал наш путь в свой кабинет. Заняв привычное место в кресле, он начал беседу с вопроса о том, как прошла наша поездка и кого из русских эмигрантов мы видели. При этом товарищ Борисов неотрывно смотрел в окно.
Мы еще раз убедились в том, какая пропасть разделяет нас с культурным атташе советского посольства. Первым именем, которое буквально сорвалось с наших губ, было имя Владимира Владимировича Набокова. Не отрывая взгляда от окна, культурный атташе произнес:
— Не знаю. Не знаком.
При имени Шагала зрачки его глаз метнулись в нашу сторону, и мы почувствовали живой и неподдельный интерес к теме — дремавшая коммерческая жилка, задавленная политическими соображениями, вдруг дала о себе знать:
— Ну как там Марк Захарович? Ничего не спрашивал о возможности оформить завещание? У нас для этого большие возможности: есть люди, есть желание работать в этом направлении.
Корыстный интерес советского государства и его чиновников превозмогал барьеры неприятия «формалистического искусства». Полемическая возня сторонников социалистического реализма отходила на второй план под впечатлением тех цифр, которые сопутствовали картинам Шагала.
Но пришлось вернуться к вопросу о нашей поездке в США, и минутное оживление на невозмутимом лице человека, который в известной мере распоряжался нашей судьбой, снова сменилось стеклянным отсутствующим взглядом, направленным в сторону окна. Товарищ Борисов объяснил нам, что Москва не справляется с обилием и сложностью задач, стоящих на очереди, и что ждать разрешения на поездку в ближайшее время не приходится.
Тем не менее мы распрощались с ним довольно весело, потому что именно в этот момент наше решение ехать в Америку окончательно созрело. И мы вышли из его кабинета совершенно окрыленные. Наш путь лежал в ближайшее кафе, где мы, словно скинув с себя чары советского колдовства, снова почувствовали себя свободными людьми.
Эту обретенную внутреннюю свободу мы с Беллой воспитывали в себе, бесконечно разговаривая друг с другом о преодолении рабского чувства, которое внедрялось всей нашей государственной системой. Современному читателю очень трудно представить себе, какой непростой путь следовало преодолеть гражданину нашей страны, чтобы решиться на неповиновение советским властям. Чудовищная тоталитарная система воспитывала в своих подданных чувство слепого послушания букве ею же придуманного закона.
Конечно, многие избавлялись от ига, решив остаться на Западе, раз и навсегда порвав отношения с советской властью. Но наше внутреннее устройство диктовало необходимость вернуться обратно, и нам следовало быть свободными людьми в условиях несвободы. В тот момент идея выехать в США без разрешения наших властей была чрезвычайно крамольной. Да и не было, по существу, прецедента подобного рода. И вот, пройдя этот внутренний путь, мы получили счастливую уверенность в правоте собственного решения. И как следствие этого — обретение прекрасного настроения.