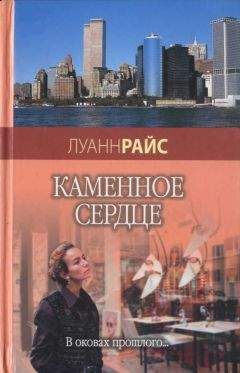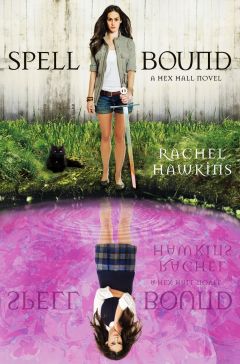Мария Белкина - Скрещение судеб
Так кончилась моя болшевская жилплощадь.
Дальше.
В июне мой сын, несмотря на непрерывные болезни (воспаление легких, гриппы и всяческие заразные), очень хорошо окончил седьмой класс Голицынской школы. Мы переехали в Москву, в кв. проф. Северцова (университет) на 3 месяца, до 1-го сентября. 25-го июля я наконец получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован на имя моей дочери (когда я уезжала из Парижа, я не знала, где буду жить и дала ее адрес и имя). Все носильное и хозяйственное и постельное, весь мой литературный архив, и вся моя огромная библиотека. Все это сейчас у меня на руках, в одной комнате, из к-ой я 1-го сентября должна уйти со всеми вещами. Я очень много раздарила, разбросала, пыталась продавать книги, но одну берут — двадцать не берут, — хоть на улицу выноси! — книг 5 ящиков, и вообще — груз огромный, ибо мне в Советском Консульстве в Париже разрешили везти всё мое имущество, а жила я за границей — 17 лет.
Итак, я буквально на улице, со всеми вещами и книгами. Здесь, где я живу, меня больше не прописывают (Университет), и я уже 2 недели живу без прописки.
1-го сентября мой сын пойдет в 167 школу — откуда?
Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему.
Положение безвыходное.
Загород я не поеду, п.ч. там умру — от страха и черноты и полного одиночества. (Да с таким багажом — и зарежут).
Я не истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича.
Но — меня жизнь за этот год — добила.
Исхода не вижу.
Взываю к помощи.
Марина Цветаева».
Марина Ивановна передает это письмо Борису Леонидовичу либо в тот же день, 27-го, либо 28 августа, ибо 28-го Борис Леонидович уже пишет Павленко:
«28. VIII.40.
Дорогой Петя!
Я знаю, о чем тебе написала Цветаева. Я просил ее этого не делать, ввиду бесцельности. Я знаю, что Союз в этом отношении ничего не добивается, а как частное лицо ты в этом смысле можешь не более моего. Но именно потому, что она тебя знает как имя, и, значит, с твоей лучшей стороны, она заупрямилась, чтобы я тебе передал письмо. Что бы она там тебе ни писала — это только часть истины, и на самом деле ее положение хуже любого изображенного. Мне не нравится цель, с какою она так добивалась передачи письма, — «чтобы потом не говорили, зачем не обратилась в Союз». Она мне ее не открывает… Я ее знаю как очень умного и выносливого человека и не допускаю мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое. Но во всяком случае эта разгоряченная таинственность мне не по душе и очевидно не к добру.
Вместо этого всего вот что.
В ближайший свой день в Союзе прими ее и познакомься с ней. Она случайно узнала об одном молодом человеке, некоем Бендицком, призывающемся в сентябре в Кр. Армию. Его комната освобождается. Это ей подыскали знакомые. Адрес такой: Остоженка (Метростроевская), д. 18, кв.1, комн. Бендицкого. Он был согласен на такое косвенное закрепление комнаты за собой (через временное ее занятие Цветаевой). Нельзя ли выяснить через нашего юриста, какой юридич. соус можно приготовить к этой физической возможности. Цветаевой она кажется беззаконной, и она этой мысли боится даже в случае осуществимости.
Как бы то ни было, согласись принять ее, и, когда сможешь, скажи, пожалуйста, Кашинцевой, чтобы она ее вызвала по тел. К-0-40-13, и сообщи о дне и часе, когда ты ее примешь. Это единственный способ известить ее, т. к. отсюда я не успею, а ей кажется, что до 30-го тебя не будет.
Прости, наконец, и меня, что надоедаю тебе.
Твой Б.П.»
Борис Леонидович взволнован состоянием Марины Ивановны, и хотя он не допускает мысли, «чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое», но именно этого-то в глубине души он и боится. А она тогда, должно быть, была очень близка именно к этому крайнему и непоправимому… Была в том состоянии запредельного предела, в котором окажется позже в Елабуге… Но тогда здесь, в августе 1940-го, еще оставалось сознание — пока я нужна, — нужна Муру, нужна тем, кто скрыт от нее за каменной стеной… И она продолжает бороться.
Борис Леонидович передает оба письма, и свое, и Марины Ивановны, Павленко, и тот, получив их, принимает Марину Ивановну либо 29-го, либо 30 августа.
Когда-то он сказал Борису Леонидовичу: — «Зря привезли в СССР Куприна, надо было Бунина и Цветаеву…»
Теперь он принимает Цветаеву как секретарь Союза, в бывшем соллогубовском особняке на углу Поварской и Кудринской площади, в той «комнате Ростовых», оставшейся без переделки и окнами глядящей на лужайку. Павленко обходителен, галантен, сочувствует, но уверяет — помочь ничем не может! Пилюля хоть и горька, но в элегантной упаковке, и Марина Ивановна, должно быть, благодарна ему хотя бы и за эту малость.
Но мне не раз доводилось слышать, как она произносила:
— Уж коль впустили, то нужно дать хотя б какой-то угол! И у дворовой собаки есть конура. Лучше б не впускали, если так…
Странно, но там, в кабинете столь влиятельного и прославленного в те годы писателя, автора романа «На Востоке», в котором он поет осанну Сталину, — она не доказывает своего права на жилплощадь в Москве, на какие-то жалкие метры, чтобы было где поставить стол и две койки, чтобы была крыша над головой!
Что ей мешает? «Гордость и робость — родные сестры…» Это?! Или ее пленяет, завораживает галантное обращение Павленко?
Но спустя день или два она будет доказывать это свое бесправное право на Москву Меркурьевой, старой, беспомощной, которая уже и вовсе ничем помочь не может! Когда-то она писала стихи, теперь подрабатывает переводами и проводит лето «на травке» в селе Черкизово.
Приведу сначала письмо самой Меркурьевой, на которое отвечает Марина Ивановна:
Ст. Пески — Коломенские
Ленинск. жел. дор.
село Черкизово,
погост Старки
д. Корнеевой.
24. VIII.40
Марина Ивановна, дорогая, посылаю, с надежным человеком Вашу — невольно задержанную — книгу.
Какой я Вас в ней увидела. Вы доталкиваетесь, добираетесь, с усилиями, сквозь толщу препятствий, загородок — к чему-то очень своему, близкому, глубокому, далекому. Вы не верите, что не пускают — и стучитесь, доверчиво и безнадежно в то же время. Трудно писать о таком, говорить легче, хотя нелегко тоже. Вы — одна из труднейших, потому что пытаетесь тронуть что-то не только за поверхностью, но и до, что-то первичное, до сознания. Жаль, не приехали Вы сюда, здесь можно лежать — на припеке, а то в тени — и урывками сказать настоящее слово. А теперь уже поздно, да?