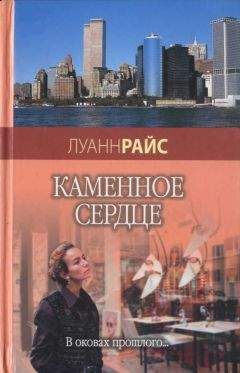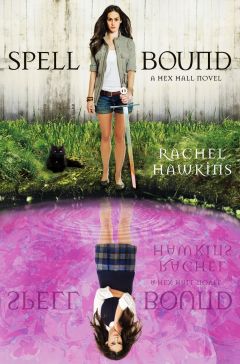Мария Белкина - Скрещение судеб
Но все же было суждено, чтоб запись эта попала мне в руки. Алина приятельница, Ада Александровна Шкодина, с которой она жила в Туруханской ссылке, а потом та помогла ей построить дачку в Тарусе, ликвидируя этот их тарусский дом за ненадобностью уже после Алиной смерти и очищая последние закрома в сарае, в старой корзине среди бросовых бумаг обнаружила черновик Алиного письма ко мне, написанного летом 1963 года, где и была та выписка из тетради Марины Ивановны.
Страница начиналась с этой выписки. Но дело в том, что дальше, говоря о тех местах, где и когда жила Марина Ивановна в Москве в последние годы своей жизни, Аля допустила неточности: она спутала и написала, что жила Марина Ивановна в квартире Жирмунского на улице Герцена, и даже дважды упомянула эту фамилию. Потом, по-видимому сверяясь с дневниками, поняла, что ошиблась. Пришлось переписывать письмо заново; теперь она пишет, что Марина Ивановна жила «в квартире знакомых», не упоминая фамилии Жирмунского, а о том, что это была квартира Северцовых, она, должно быть, не знала, ибо те письма, которыми я теперь располагаю, Але тогда не были известны. Ее также смущает «комната Зоологического музея», она не была в этом доме и не понимает, что это может означать, и поэтому во втором варианте письма ко мне «Зоологический музей» она вычеркивает и ставит многоточие. Она много делает выписок из дневника Мура. Исписано четыре больших страницы, и та выписка «об А.К.» не умещается, и надо начинать новую страницу, но письмо и так уже получилось достаточно объемным, и потом выписка эта уводит в сторону, там разговор уже идет о другом, и Аля заканчивает письмо и, уже подписавшись, в самый притык к краю, приписывает: «Есть и одна мамина горькая запись об А.К». И явно это делает для того, чтобы потом вернуться к этой записи в разговоре — иначе зачем же ей было делать эту приписку, закончив письмо.
А выписка гласила следующее: «…Тарасенков, например, дрожит над каждым моим листком. Библиофил. А то, что я, источник (всем листочкам!), — как бродяга с вытянутой рукой хожу по Москве: — Пода-айте, Христа ради, комнату! — и стою в толкучих очередях — и одна возвращаюсь темными ночами, темными дворами — об этом он не думает…
… — Господа! Вы слишком заняты своей жизнью, вам некогда подумать о моей, а — стоило бы… (Ну не «господа», — «граждане»…)»
«(Из записи в черновой тетради между 5 и 15 сентября 1940 г.)» — приписывает Аля.
Запись эта очень характерна для Марины Ивановны, во многих письмах, а их уже по неточным подсчетам опубликовано более четырех сотен, можно найти схожие жалобы и упреки в адрес ее современников и друзей. А недавно мне попал в руки дневник, который Марина Ивановна вела в 1918 году на реквизиционном пункте в Тамбовской губернии, где она оказалась, меняя ситец и спички на муку и пшено, и где ей приходилось мыть пол у жены начальника этого реквизиционного пункта, и где она писала в своей тетради (а писала она всегда, везде, в любое время, при любых обстоятельствах, писала на вокзале, в поезде, на прогулке, ее записная книжка всегда была с ней в кармане: «Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего, всего…»), — так в том дневнике 1918 года почти слово в слово повторяется то же, что написано и в 1940-м.
«Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, а стоило бы…»
Марк Слоним в воспоминаниях о Марине Ивановне замечает, что в тяжкую минуту она свой гнев на несправедливости и тяготы судьбы обращала чаще всего именно на тех, кто хоть как-то и чем-то пытался облегчить ей жизнь, требуя от них невозможного и не ища истинной причины и истинных виновников своих бед и горестей.
И все же, должно быть, она была права — мы все были слишком заняты своей сегодняшней быстротекущей и такой, в общем-то, неуютной и зыбкой жизнью и не заглядывали в вечность, в которой нам не было места, а она отлично понимала, что работает именно на эту вечность, работает каторжную работу, ибо творчество — это не только вдохновение и радость отдачи, но и тяжкий, изматывающий, изнуряющий повседневный труд. А повседневность ей так мало оставляла времени на этот труд, требуя от нее иного труда, зачастую отнимающего все насущное время и силы… И если мы — те, с кем хотя бы на короткое время столкнула ее судьба, не могли сделать для нее немыслимого, то больше того, что мы делали, сделать все же могли и должны были!..
И все мы, как и те, кто встречался с ней после ее возвращения на родину, так и те эмигранты, с которыми перекрещивались ее жизненные пути в Чехии и Париже, все в одинаковой мере виноваты перед ней и несем горькую ответственность современников…
А что касается Тарасенкова и упрека по поводу комнаты, то у него у самого не было того, что называлось жилплощадью, он жил у тестя, стесняя этим его и себя, и свою жилплощадь он получит еще только в 1950 году. И был он всего лишь сотрудником журнала «Знамя», и даже не членом редколлегии, и в Союзе писателей веса не имел. А про «ночные походы» догадывался ли Тарасенков? Я об этом не подозревала, это знали только те, кого коснулось, но они молчали…
Запись из черновой тетради Марины Ивановны Аля датирует 5 — 15 сентября 1940 года — это были очень трудные дни. Впрочем, а какие были легкими!? Но в эти дни Марина Ивановна впадает уже в полное отчаяние.
Июнь-июль прошли в хождении на таможню, в добывании вещей. Затем перевозка вещей. В августе комната на Герцена превращается в склад или в камеру хранения: ящики, корзины с книгами, тюки, чемоданы, дорожные мешки. Марина Ивановна в ужасе, что все это может рухнуть и отдавить ногу Муру, который так неуклюже разворачивается в узком проходе. Она пытается рассовать вещи по знакомым, но все так тесно живут и мало что могут поставить у себя. Тарасенков устраивает корзину с книгами к своим друзьям Ельницким, которые не знакомы с Мариной Ивановной, но рады ей помочь. И на Малом Николо-Песковском в тесной передней Ельницких устанавливается эта корзина, на которую до осени все жильцы будут натыкаться. Марина Ивановна с Муром относят связки книг в букинистические магазины, но книги на иностранных языках плохо идут. Марина Ивановна раздаривает вещи, книги, но уверяет, что количество их от этого не убывает.
Она бегает по объявлениям, она дала уже четыре объявления в газете — ищу комнату, хочу снять комнату, — но с сыном никто не сдает.
А дни проскакивают, день за днем, и уже кончается август, и вот-вот вернутся с юга Габричевские, и надо съезжать. А куда съезжать?
И Муру надо первого сентября идти в школу. В какую? В школы принимают по районам, нужна справка о прописке в том районе, где находится школа. А если он нигде не прописан?! В дневнике Мура есть запись, сделанная еще 14 августа: «Тарасенков обещал мне ходатайство от ред. «Знамя» для поступления в школу…»