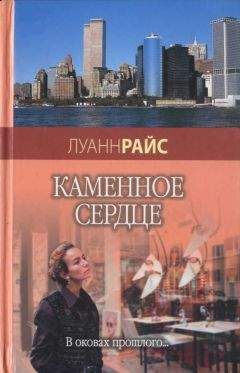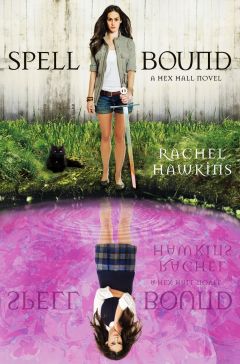Мария Белкина - Скрещение судеб
Без ходатайства не примут, с ходатайством приняли, и он первого сентября пошел в школу в районе Мерзляковского переулка. Но где он будет жить дальше, где они найдут комнату и найдут ли? И опять менять школу, какую уже по счету!
И еще Марина Ивановна боится жить без прописки, ее прописали на Герцена в университетском доме временно, на два летних месяца, и срок прописки миновал, и больше не прописывают, а Марина Ивановна каждую минуту ждет появления управдома, или участкового, или еще кого-то, кто напомнит ей, что она «нарушает!» И она, презирающая все земные путы, земные несвободы, условности земного бытия, — боится, панически боится «нарушить»…
И еще, каждые две недели те ее ночные походы и страх ожидания — примут или не примут передачу. «В списках не числится!» И что это будет означать — «в списках не числится»! И тем, кто не числится, лучше им от этого, хуже им от этого?! И чего им желать, чего наколдовывать, чтобы числились или чтобы не числились?.. А себе? Так хоть знает — приняли деньги — жив еще. А тогда?..
И уже лето 1940 года повторяет даты лета 1939-го. Уже идут годовщины: 18 июня годовщина приезда в Россию. 19-го — в Болшеве — свидание с мужем. 27 августа годовщина ареста Али, ровно год, как ее, в босоножках, в красной безрукавке, увели на рассвете… И ночь на 27 августа Марина Ивановна проводит на Кузнецком мосту, во дворе дома номер 24, и передает Але на Лубянку деньги. Она, должно быть, думает, что деньги передадут сразу, в этот же день, и Аля догадается, что мать помнит, что она в эту ночь была тут, рядом с ней…
И отстояв ночь в замкнутом со всех сторон дворике и просидев в приемной за решетчатой, стеклянной стеной, она бежит вниз по Кузнецкому, она всегда — бежит, легкая, стремительная, бежит к Манежу, потом мимо университета, через двор к тому корпусу, где в квартире Северцовых — старенькая няня и чудный кот, «мышиный, египтянин, на высоких ногах, урод, но божество…» Приходит в комнату Зоологического музея, заваленную ящиками с книгами, тюками, чемоданами, в комнату, из которой через три дня она должна съехать…
И, как утопающий за соломинку, она хватается за последнюю надежду, понимая, что надежда эта не надежда, но, уж чтобы все дороги были исхожены, все возможности испробованы, — она снова обращается в Союз писателей. Тогда, в тот день, 27 августа, она пишет письмо Павленко, пишет по новой орфографии без ять, без твердых знаков, нарочито изменяя своей привычке придерживаться старого правописания. И подпись «Цветаева» покажется такой непривычной для тех, кто имел дело с ее рукописями и письмами, — написанная не через ять, а через «е».
«Москва, ул. Герцена, д.6, кв. 20 (Северцова)
27-го августа 1940 г.
Многоуважаемый товарищ Павленко,
Вам пишет человек в отчаянном положении.
Нынче 27-е августа, а 1-го мы с сыном, со всеми нашими вещами и целой библиотекой — на улице, потому что в комнату, которую нам сдали временно, въезжают обратно ее владельцы.
Начну с начала.
18-го июня 1939 г., год с лишним назад, я вернулась в Советский Союз, с 14-летним сыном, и поселилась в Болшеве, в поселке Новый Быт, на даче, в той ее половине, где жила моя семья, приехавшая на 2 года раньше, 27-го августа (нынче годовщина) была на этой даче арестована моя дочь, а 10-го октября — и муж. Мы с сыном остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. Я обратилась к Фадееву за помощью. Он сказал, что у него нет ни метра. На даче стало всячески нестерпимо, мы просто замерзали, и 10-го ноября, заперев дачу на ключ (NB! у нас нашей жилплощади никто не отнимал, и я была там прописана вместе с сыном на жилплощади мужа) — итак, заперев дверь на ключ, мы с сыном уехали в Москву, к родственнице, где месяц ночевали в передней без окна на сундуках, а днем бродили, потому что наша родственница давала уроки дикции и мы ей мешали.
Потом Литфонд устроил нас в Голицынский Дом Отдыха, вернее, мы жили возле Дома Отдыха, столовались — там. За комнату, кроме 2-х месяцев, мы платили сами — 250 р. в месяц, — маленькую, с фанерной перегородкой, не доходившей до́ верха. Мой сын, непривычный к такому климату, непрерывно болел, болела и я, к весне дойдя до кровохарканья. Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми негорящими лампами, тасканьем воды с колодца и пробиваньем в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса вскакивая, думая (надеясь!), что уже утро. Слишком много было стекла (все эти стеклянные террасы), черноты и тоски. В город я не ездила никогда, а когда ездила — скорей кидалась обратно от страха не попасть на поезд. Эта зима осталась у меня в памяти как полярная ночь. Все писатели из Дома Отдыха меня жалели и обнадеживали…
Всю зиму я переводила. Перевела две английские баллады о Робин-Гуде, три поэмы Важа Пшавела (больше 2000 строк), с русского на французский ряд стихотворений Лермонтова, и уже позже этим летом, с немецкого на французский большую поэму Бехера и ряд болгарских стихотворений. Работала не покладая рук — ни дня роздыха.
В феврале месяце мы из Голицына дали объявление в Веч. Москве о желании снять в Москве комнату. Отозвалась одна гражданка, взяла у нас за 6 месяцев вперед 750 руб. — и вот уже 6 месяцев как предлагает нам комнату за комнатой, не показывая ни одной и давая нам ложные адреса и имена. (Она за этот срок «предложила» нам 4 комнаты и показала только одну, в которую так и не впустила, п.ч. там живут ее родные). Она все отговаривалась «броней»», к-ую достанет, но ясно — что это — мошенница.
Дальше.
Если я не ошибаюсь, к концу марта, воспользовавшись первым теплом, я проехала к себе в Болшево (где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель) — посмотреть — как там, и обнаружила, что дача взломана и в моих комнатах (двух, одной — 19 метр., др. — 7-ми — метр.) поселился начальник местного поселкового Совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудником вторично проехала на дачу, но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков — а именно начальник милиции — удавился, и мы застали его гроб и его — в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги, а мебелью взломщики д. сп. пользуются, п.ч. мне некуда ее взять.
На возмещение отнятой у меня взломщиками жилплощади мне рассчитывать нечего: дача отошла к Экспортлесу, вообще она и в мою бытность была какая-то спорная, неизвестно — чья, теперь ее по суду получил Экспортлес.
Так кончилась моя болшевская жилплощадь.
Дальше.
В июне мой сын, несмотря на непрерывные болезни (воспаление легких, гриппы и всяческие заразные), очень хорошо окончил седьмой класс Голицынской школы. Мы переехали в Москву, в кв. проф. Северцова (университет) на 3 месяца, до 1-го сентября. 25-го июля я наконец получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован на имя моей дочери (когда я уезжала из Парижа, я не знала, где буду жить и дала ее адрес и имя). Все носильное и хозяйственное и постельное, весь мой литературный архив, и вся моя огромная библиотека. Все это сейчас у меня на руках, в одной комнате, из к-ой я 1-го сентября должна уйти со всеми вещами. Я очень много раздарила, разбросала, пыталась продавать книги, но одну берут — двадцать не берут, — хоть на улицу выноси! — книг 5 ящиков, и вообще — груз огромный, ибо мне в Советском Консульстве в Париже разрешили везти всё мое имущество, а жила я за границей — 17 лет.