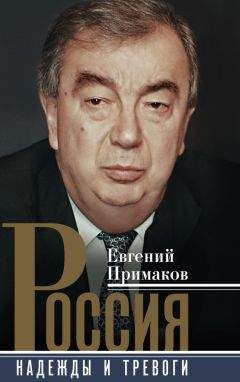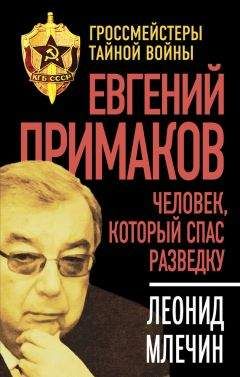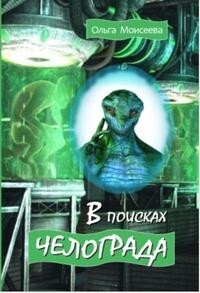«Я много проскакал, но не оседлан». Тридцать часов с Евгением Примаковым - Завада Марина Романовна
— Видимо, инстинкт самосохранения выталкивает из сознания то, что было нелюбимым?
— Даже не знаю, в чем тут дело. Вообще, весь этот период, когда я был премьером, сейчас больше вспоминаю по книге, в которой его описал — «Восемь месяцев плюс…» При том, что писал ее сам. (Смеется.)
Мы с Ирой давно обитаем за городом, однако по натуре я не пейзанин, не испытываю тяги к земле, как, скажем, Афанасий Фет, который, поселившись в деревне, стал образцовым помещиком и создал идеальную усадьбу. Но мы-то живем не так. Иногда за выходные носа на свежий воздух не высунем.
— Вы не всегда жили на большой даче в Горках, имели просторную квартиру в центре Москвы. В тесноте съемных комнат, малогабаритного «неэлитного» жилья дом и тогда был открыт для дружески бесцеремонных «набегов»? Вас не стесняли шум, гам, наверное, раскладушки?
— Вы изобразили какой-то Ноев ковчег. Такого столпотворения не было. Но ясное дело, оттого, что я более десяти лет жил в Москве, снимая углы, комнаты, друзья не прекратили собираться у меня и ко мне приезжать. Я работал уже главным редактором вещания на арабские страны, когда получил свою первую комнату. Чтобы оформить ордер, надо было собрать справки из массы домоуправлений, ездить по Москве и вспоминать, где я снимал углы…
— По-разному относящиеся к вам люди сходятся в одном: вы на редкость постоянны в дружбе. Кто они, ваши многочисленные друзья? Вы как-то ранжируете их по степени близости?
— «Друг» — уже превосходная степень близости. Вы же не назовете так хорошего знакомого? А друзей у меня, правда, много. Среди них особое место принадлежит друзьям детства, с которыми ты можешь расходиться во взглядах, во всем, но это друзья. Теперь они, к сожалению, не бывают в Москве.
— Друзья детства редко проходят с человеком через всю жизнь. У вас по-другому. Как бы ни развела судьба, дворовые, школьные отношения не порастают быльем, святы для вас? Это — «кавказский след»?
— Я полагаю, это нормальное состояние человека.
А может, сюда и примешивается что-то тбилисское. Иногда грань, где заканчивается подростковая привязанность и начинается мужская дружба, неуловима. Так у меня вышло с Левой Ониковым. Он старше меня. Учились в одной школе, но в разных классах. Чисто визуально знали друг друга. Дружба завязалась в Москве. Лева закончил МГИМО, работал консультантом в отделе пропаганды ЦК КПСС. Ему многое не нравилось из того, что происходило в аппарате ЦК. Мы были единомышленниками.
Уже девять лет, как Левы нет. Но всякий раз, когда мы с друзьями произносим тост за ушедших, я вспоминаю его слова: «Не надо называть имен. Потому что те, кого мы забудем упомянуть, останутся на том свете с пустыми чашами».
— А как в зрелом возрасте становятся вашими друзьями? Это любовь, подобно теореме Ферма, не поддается разгадке, но у дружбы есть внятная логика. Не безыскусное же — «жизнь свела»?
— Человек обязательно должен быть тебе очень близок по духу. Это относится и к Томасу Колесниченко, с которым мы вместе работали в «Правде», и к известинцам Станиславу Кондрашову, Виталию Кобышу, Николаю Шишлину… С Колей меня познакомил Они-ков. Вот так постепенно и образуется конгломерат: кого-то ты знаешь, кто-то прибавляется.
Есть замкнутые люди. Им в дружбе труднее. Я не замкнутый. Среди друзей, обретенных в зрелом возрасте, выдающийся врач, великий — не побоюсь этого слова — Владимир Иванович Бураковский. Очень тесно дружу с теперь уже тоже выдающимся кардиологом Давидом Георгиевичем Иоселиани. С Давидом, он моложе меня на четырнадцать лет, я познакомился через его отца, известного грузинского хирурга. Хотел бы перечислить и других друзей, особенно ушедших из жизни, но не стану, следуя мудрому предостережению Оникова.
— Знаем, вы присматриваете за детьми друзей, готовы откликнуться на проблемы третьего, четвертого поколения людей из вашего ближнего круга. Это тоже из разряда неукоснительных правил, которым стараетесь следовать?
— У меня нет, как когда-то у Левы Оникова, такой записной книжки, где бы перечислялись разные просьбы, которые надо выполнить. Но в меру своих сил близким людям я помогаю. И конечно, не теряю из виду детей, внуков покойных друзей. Родные Левы, если что, всегда мне звонят. Все дети друзей зовут меня «дядя Женя».
— Разочарования вас, как всякого человека, не миновали. И с подставами, малодушием сталкивались. Какое из предательств было особенно горьким?
— Предательства? Любое из них горькое. Мне повезло, их было немного. Но отдельные были. Были. И в близком окружении.
— Вы с этими людьми порывали?
— Я с этими людьми порывал. Ну как порывал? Я сейчас даже с Волошиным через стол поздоровался. Мы оказались на одном фуршете. Он мне поклонился. И я ему.
— Волошин — другое дело. Он никогда не был вашим другом. Действовал по законам войны.
— Понимаю. Но и тот, кто не встал рядом со мной в тяжелую минуту, теперь не мой друг.
— Давайте сменим тему. Когда-то Черномырдин заметил о Ельцине, что тот лет пять или десять денег в глаза не видел, даже толком не знает, какие купюры в ходу.
— Про себя я так сказать не могу. У меня есть бумажник. Показать? (Тянется рукой к карману.)
— Верим.
— Там и деньги лежат, и кредитные карточки.
— А часто пользуетесь бумажником? Что домашние доверяют вам покупать самостоятельно?
— В магазинах я не бываю. Деньги отдаю жене.
А сам расплачиваюсь в ресторанах — по карточке. Или с парикмахером — наличными.
— У вас хранятся дома какие-нибудь знаковые предметы, которые вы бережете как особенно памятные?
— Они существуют, наверное, в каждой семье.
Расскажу об одной дорогой мне вещи. Я несколько раз встречался с саудовским королем Абдель Азизом Фах-дом. Его Величество как-то заметил, что, разговаривая с ним, я перебираю четки. Король искренне удивился: «Ты любишь четки?» — «Да». — «В таком случае дарю тебе мои. Я хранитель двух главных мусульманских святынь, и смотри не передаривай эти четки никому».
Приехав в Саудовскую Аравию в следующий раз, я на встрече с королем сказал: «Ваше Величество, я стал знаменитым благодаря вашим четкам. Все мои знакомые ими восхищаются». Король вдруг спрашивает: «А Горбачев любит четки?» — «Не знаю». Может, зря я не сказал, что любит? Фахд, очевидно, хотел Михаилу Сергеевичу тоже сделать подарок. (Улыбается.)
— Вы по-прежнему неравнодушны к четкам?
— Подаренные королем очень изящны: черный жемчуг нанизан на золотую цепочку. Но четки для меня ценны как память о расположении Фахда. Порой я достаю их из шкафа, рассматриваю и думаю: сколько им лет?
— В одном из давних стихотворений вы сокрушались:
«Время сушит, время рушит, что казалось вечным».
Но ведь вам вопреки всему не свойственно минорное мироощущение?
— В этих строчках акцент сделан на слове «вечное». Время равнодушно обрушивает то, что представлялось незыблемым. Я верил, что любимая, которую привез из Грузии, всегда будет рядом; что сын, которого она мне родила — самый близкий мне человек, — как и положено, переживет отца; а родной город Тифлис, Тбилиси не изменит своего прелестного облика. Время все это рассыпало. Ну а как мне живется при этом, как борюсь с минорными ощущениями, я вам старался рассказать.
Так?
— Так. Я твердо все решил…
— Евгений Максимович, вы не возражаете, если мы назовем книгу строчкой из этого вашего стихотворения: «Я много проскакал, но не оседлан»?
— А что? Я седла на себе не чувствую.
Вместо послесловия
Женщина тяжеловеса
Ирина Борисовна Примакова не разделяет мнения, что все счастливые семьи похожи друг на друга