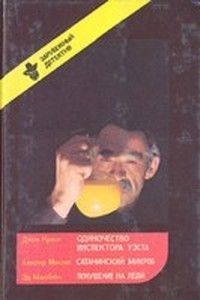Эммануил Казакевич - Из дневников и записных книжек
Она же ничего не сказала, только махнула рукой не то презрительно, не то горестно.
— День рожденья — буржуазный предрассудок, — произнесла она наконец насмешливо.
Видимо, он был занят собой и не улавливал переходов в ее настроении: он только смотрел на нее, видел ее тонкую фигуру, темные блестящие волосы до плеч и очки, за которыми большие светлые глаза всегда смотрели пристально и смущали людей даже очень взрослых и самоуверенных. Очки на ее юном лице были неожиданны и как бы неуместны, но в то же время придавали глазам Киры особую притягательную силу — подобно тому, как покров, одежда, скрывая тело, делает его еще более желанным.
Кира смотрела на Федю так проникновенно, так печально и насмешливо, что Федя одно мгновенье думал, что здесь, у Полетаевых, уже известно о постигшей его катастрофе, и он испытал унизительный страх и стыд. Но тут же оказалось, что непривычно горестный взгляд Киры связан с ее собственными переживаниями. Она стала рассказывать жалобным голосом о том, что нынешний день рожденья сорвался, не состоится, так как папа поссорился с ней — "и, кажется, навсегда". Сегодня утром Кира, "совсем даже в шутку", как она выразилась, "просто для интересу", намазалась губной помадой парижской, которую папа привез на днях из Парижа в подарок своей жене.
— Что было с папой! — сказала Кира, усмехнувшись. — Он побледнел как мертвец и стал говорить, говорить, говорить. Начал с матери братьев Гракхов и кончил Кларой Цеткин и Надеждой Константиновной Крупской. А твой дружок Аркаша подбрасывал хворосту в костер, — Кира надменно вздернула подбородок. — Все меня учат. И хоть бы я промолчала… Но я имела глупость спросить папу: "А почему ты бросил маму, которая вся сплошной положительный пример, и женился на Маше, которая — вся сплошной отрицательный?.." На это он, конечно, не смог ответить. Он только швырнул об пол вазу для цветов, разбил ее и сказал, что не будет у меня на именинах, и что вообще никаких именин не будет, тем более, что именины тоже пережитки старого мира, как и губная помада и вообще все на свете, кроме ударных бригад и непрерывной недели!
Пока Кира выкладывала ему свое горе, Федя почувствовал себя необыкновенно усталым и сел, как был в полушубке, на край кровати. А она, рассказывая — то жалобно, то иронически, то со слезами, то с язвительным смехом, — не понимала выражения его лица и принимала его печаль за сочувствие ее горю и закончила неожиданно:
— Ты лучше всех, Федя… Ты ведь меня не осуждаешь, правда? Ты не ханжа ведь, верно? — Она нагнулась и поцеловала его — вернее, обслюнила сладкой слюной висок и бровь и затем, прислушавшись, зашептала: — Он уходит… Пойдем, Федя. Он тебя уважает. Считает тебя человеком, как он выражается, «дельным»… Особенно с тех пор, как он узнал, что ты можешь сложить печку, он в тебе души не чает.
Федя встал и вышел вслед за ней в прихожую.
Виктор Васильевич уже надевал шубу.
— Папа, Федя пришел, — смиренно сказала Кира.
— Пролетарское студенчество, как всегда, в авангарде, — пробасил Виктор Васильевич вовсе не сердито, а, наоборот, гостеприимно и ласково, как всегда. Он уже жалел о размолвке с Кирой в день ее рождения, воспоминания о детстве Киры, несмотря на раздражение, смягчили его сердце. Кира родилась в 1913 году в городе Париже, в XXIV арондисмане, на улице парка Монсури; в предместье Сен-Жак обычно селились русские эмигранты. Неподалеку, на улице Мари-Роз, жил Ленин, он уехал раньше рождения Киры, но когда она родилась, прислал из Кракова поздравления; Раиса Самойловна, беременная Кирой, полдня просиживала в парке Монсури возле пруда. Иногда Ленин, приходивший туда с книгами и тетрадками, а порой и без всякой работы, просто для отдыха, садился рядом с ней. Тут он никогда не разговаривал о политике и о делах, а больше о деревьях и цветах — Раиса Самойловна была естественницей по образованию. Эти воспоминания и вообще картины довоенного Парижа, любимого города Виктора Васильевича, связанные с рождением и ранним детством Киры, смягчили его, а приход Феди создал возможность для отступления и примирения — разумеется, оно должно было состояться на некоторых условиях, которые Виктор Васильевич чуть ли не весь день втайне вырабатывал, хотя в глубине души порой сознавал свое бессилие.
Не снимая шубы, он завел Федю в столовую, Кира с притворной робостью последовала за ними — в душе она ликовала.
— Пролетарское студенчество голодное, — продолжал Виктор Васильевич, смеясь и глядя на Федю поверх пенсне. — Накормите Федю Ошкуркина обязательно. А то гости начнут съезжаться поздно, а он будет тут пялить глаза на закуски… Я это помню по своей молодости. Когда учился в Юрьевском университете и меня приглашали в богатый дом, где я репетировал молодого кретина… я постарел от долгого и напрасного глазения на вкусную снедь.
Он повернулся к вошедшим из другой комнаты двум женщинам — Марии Христофоровне, или Маше, как ее все называли, жене Виктора Васильевича, и Раисе Самойловне — его первой жене, с которой он разошелся несколько лет назад, она жила отдельно, но приходила часто к детям в Померанцев.
Федю с его остатками деревенских представлений о жизни удивляли и несколько шокировали взаимоотношения в семье Виктора Васильевича. Раиса Самойловна, старая большевичка, работник ЦКК-РКИ, сохраняла со своим прежним мужем дружеские отношения с оттенком снисходительности и насмешки. Кира жила вначале с матерью, но Раиса Самойловна, человек занятой, проводившая дни и ночи на работе, вскоре привела Киру к отцу; к тому времени мать Киры уже присмотрелась к Маше, та ей понравилась, и она решила, что Кире будет у отца лучше.
— Она халда, — говорила про Машу Раиса Самойловна, — но в ней что-то есть.
Маша — большая, красивая, неопрятная, — целые дни курила, и писала коричневые, словно загоревшие на солнце пейзажи и разные фрукты, в квартире все пропахло маслом и красками, на всех столах и часто на полу валялись гниющие груши, заплесневелый виноград и высохшие до размеров грецкого ореха лимоны. Маша все время куталась в огромный цветастый цыганский платок, казалось, что она дома в гостях.
— Вернусь я часа через два, продолжал В[иктор] В[асильевич]. На радиостанции имени Попова в восемнадцать тридцать моя лекция о новом быте и социалистических городах. От антирелигиозной лекции в Замоскворецком райкоме меня обещали освободить в связи с семейным торжеством.
Раиса Самойловна подошла к буфету, где стоял привезенный на днях Виктором Васильевичем из Франции сервиз с тончайшими (чашками,) раскрашенными пастушками и пастушками, придворными дамами и кавалерами. Она взяла в руку одну из чашек и желчно усмехнулась: