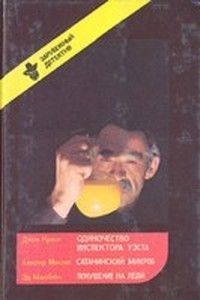Эммануил Казакевич - Из дневников и записных книжек
Во время чаепития обе бабки все время разговаривали друг с другом и все делали, не переставая разговаривать. Федя вначале не слушал их разговора, потом стал слушать. Они говорили о том, что Моссельпром прекращает торговать вразнос и меньше чем через две недели обе бабки окажутся безработными. Потом бабки собрались уходить и снова надели поверх ситцевых платков синие фуражки, по околышам которых было написано большими буквами «Моссельпром». Бабки в этих фуражках выглядели очень смешно, тем более, что явно гордились этими фуражками, и как только надели их, так сразу стали стараться выглядеть подчеркнуто и лихо.
XI
Не успели обе бабки из Моссельпрома выйти, как в комнату вернулись дети, — и не только те, которые были раньше, но и другие, не осмелившиеся раньше сюда войти в силу родительских запретов или природной робости. Федя вывел их во двор, под метель, и слепил при их помощи большого снежного человека. Дети принесли угольки, старую морковку и старую шапку. С угольками вместо глаз и морковкой в качестве носа, в рваной шапке набекрень, человек этот, чуть наклонившись в сторону, как Пизанская башня, и по этой причине похожий на пьяного, был необыкновенно смешон. Вначале дети не смеялись, так как не смеялся Федя, и дети, видя это, тоже старались не смеяться. Но затем, уже не в силах сдерживаться, они стали хохотать и тоже валиться набок. И каждый произносил какую-нибудь фразу от имени снежного человека — либо стараясь говорить басом, либо, наоборот тонким голоском. От имени этого человека они старались сказать что-нибудь очень смешное, и чью-нибудь особенно смешную или особенно заумную фразу покрывали громким хохотом.
Валька сказал:
— Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте почивать.
А Фая сказала:
— Айдапулифурипуски.
И, застыв, стала валиться влево. И на нее стали валиться другие, задыхаясь от смеха и крича: "Айдапулифурипуски!" Затем другой мальчик, по имени Паша, вставил себе в рот карандаш, как папиросу, и, выпуская воображаемый дым, сказал:
— Какие тут могут быть вопросы? И не думайте, и не мыслите, и не гадайте!..
Это вызвало почти истерику, особенно когда Паша с застывшим лицом, как будто бы очень серьезно, тоже повалился на снег.
— Ну вот, играйте, — сказал Федя, — а я пойду.
Он сказал это тихо, не так для детей, как для Кости, который стоял все время возле него, но все услышали и сразу смолкли. А Костя схватил Федину руку, и Федя постоял-постоял и остался. Он остался потому, что подумал, что ему просто некуда идти. Конечно, он понимал, что ему надо куда-нибудь идти — хотя бы для того, чтобы уйти отсюда. Не может же он быть тут вечно. Но он никак не мог придумать, куда идти, и снова остался, хотя понимал, что выигрывает-то всего час или два, а потом надо что-то решать.
Затем дети разошлись по домам по разным надобностям — кого позвали матери, кого послали за чем-нибудь — и Федя вернулся в комнату с Костей и с рыжей Фаей, которую оплевал верблюд. Потом пришла какая-то женщина мать кого-то из ребят, но Федя так и не понял, кого именно, и пригласила его с Костей к себе обедать. Они пообедали у нее и снова вернулись в комнату. Там уже была бабка Милка — без фуражки и без лотка. Узнав, что Федя с Костей обедали у соседей, да еще к тому же у Тамары Лазаревны, бабка Милка посмотрела на Федю озадаченно и уважительно. И когда в комнату снова пришли дети, бабка Милка ничего не сказала.
Метель все мела, поэтому стемнело рано, свет зажгли чуть не с полдня, и было непонятно — поздно или рано. По-видимому, не знала этого толком и Любка, когда ее нерешительные шаги зашаркали за дверью. Потоптавшись за дверью и прислушавшись, она тихо и очень медленно открыла дверь и шепотом сказала Милке, которую увидела первой:
— Инженера привела.
Она была очень пьяна, еле держалась на ногах. За ней появилось маленькое личико с усиками, в инженерской фуражке.
В следующее мгновенье Любка увидела Федю и детей, наклонившихся над столом, где он что-то рисовал для них. Увидев Федю, Любка поразилась. То ли она забыла о нем, то ли не думала, что он задержится так поздно. Может быть, ее изумила больше всего та поза, в которой сидели рядом Федя и Костя, та близость, которая чувствовалась между ними — до того, что они казались похожими друг на друга; во всяком случае их глаза смотрели с одинаковым выражением.
Инженер, увидев мужчину и детей, страшно испугался и отпрянул от двери. Однако Любка уже оправилась и, схватив его за рукав, потащила в комнату.
— Заходи, заходи, не бойся, — сказала она не очень уверенно.
— Я приехал издалека, — забормотал инженер извиняющимся голосом, знакомых нет…
В руках у него был портфель. Он положил портфель на стол, вынул оттуда две бутылки и не без подобострастия поставил их на стол перед Федей.
— Выпьем, а?! — воскликнула Любка, тревожно глядя то на Федю, то на инженера. — Вот видишь… Рябиновая настойка и пшеничная водка. Ты что больше любишь, рябиновую или пшеничную? — Не получив ответа на свой вопрос, она злобно сказала: — А вы чего тут сидите, пялитесь? Марш отсюда! — Дети мигом хлынули к двери и исчезли. — И ты, — сказала Любка после паузы, подняв глаза на инженера. — И ты тоже. Иди себе.
Она взяла бутылки и сунула их обратно в инженерский портфель. Закрыв портфель, она отдала его инженеру в руки, надела на него фуражку, которую он снял было, и выпроводила, не говоря ни слова, по коридору на кухню. Ее каблучки, за минуту до того робко скользившие возле двери, теперь решительно стучали по коридору. Она вернулась, молча сняла свою жакетку с лисой, послушала, что говорят между собой Федя и Костя, умилилась, всплакнула быстро и бурно, вытерла глаза, засмеялась и сказала:
— На черта он мне сдался… Просто ему деться некуда… коек в гостинице нет. А вы, Вася, чай пили? Костя, ты Васю чаем угощал?
— Меня зовут Федором, — сказал Федя.
— Ты же сказал Василием, — произнесла она смущенно.
— Нет.
Она помолчала, потом раскрыла свою сумку и вынула из нее завернутые в бумажные салфетки котлеты, жареную картошку и несколько конфет. Она все это положила на стол, потом постояла минуту молча и проговорила:
— Отец наш погиб на гражданской войне. Мама умерла от тифа.
Костя сказал угрюмо:
— Врет.
Любка кротко промолчала, потом стала стелить постели. Себе она постелила за занавеской на Костино место, а Феде и Косте велела лечь на кровати.
Наутро, когда все спали, Любка ушла на базар.
Чем ближе время подходило к вечеру, тем беспокойнее становилось на душе у Феди. Костя заметил его состояние и, тревожно глядя издали на Федю, с замиранием сердца ожидал того мгновенья, когда его новый друг наконец встанет и скажет те слова, которые говорил уже не раз, но которые, как Костя чувствовал, могут теперь оказаться окончательными.