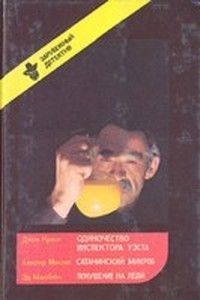Эммануил Казакевич - Из дневников и записных книжек
— Лекции о новом быте ты читаешь, товарищ Петров-Полетаев. Но сам ты что-то слишком красиво живешь…
Виктор Васильевич ответил с легкой иронией:
— Не волнуйся, товарищ Петрова… Мировую революцию за фарфор не продадим.
— А не продали еще?
— Не продали.
— Что ж, хорошо, — сказала она кротко и поставила чашку обратно на блюдце. Ее суровые глаза за стеклами пенсне смягчились, стали совсем добрыми.
Федя пошел провожать Виктора Васильевича к автомобилю. По дороге, на лестнице, Виктор Васильевич как бы прорепетировал предстоящую лекцию, набросав перед Федей основные тезисы: надо строить большие блоки с общей кухней и столовой, с яслями и детским садом, это должна быть коммуна, но не на двадцать или сорок человек, для которых создавать детские учреждения и учреждения общественного питания невыгодно, а на четыре — шесть тысяч. Никаких кухонь в семьях. Личным имуществом должны быть только зубные щетки. Дети должны с грудного возраста воспитываться в яслях — "смешной термин, происходящий, как ни странно, от яслей, где родился наш спаситель Иисус Христос, теперь это стало вполне социалистическим термином" — без участия родителей, которые, если родительские чувства их не атрофированы, могут брать к себе ребенка на выходной день…
Автомобиль уже был совсем белый от снега. Когда Виктор Васильевич захлопнул за собой дверцу, со всех сторон посыпался снег. Машина завелась не сразу, ей как будто было тяжело или холодно завестись под снегом. Пока она заводилась и глохла, Виктор Васильевич смотрел из окошка на Федю, а Федя смотрел на него, на его доброе большое лицо с темной бородкой и усами и думал о том, что это стекло, разъединяющее их, только мельчайшая доля всего того, что их разделяет теперь и через что невозможно перешагнуть.
Автомобиль отъехал, а на том месте, где он стоял, на снегу осталась только легкая черта и желтизна. Но Федя все стоял и думал: идти ли обратно в дом или уйти. Он все-таки вернулся и даже помогал Кире и Маше приносить что-то из кухни в столовую, носить стулья, что-то отвечал им на вопросы, а потом, когда пришел Аркадий, они о чем-то разговаривали в кабинете Виктора Васильевича среди тысяч книг, — но что он говорил и на что отвечал, Федя мог бы вспомнить только с некоторым трудом уже через минуту после сказанных слов.
Между тем начали съезжаться гости. Столовая и кабинет, комната Маши, вся обвешанная холстами с этюдами, и комнатушка Киры понемногу заполнялись людьми. Общество у Виктора Васильевича собиралось самое разнообразное. За тринадцать лет советской власти Петрова-Полетаева перебрасывали с работы на работу; при своей доброжелательности, обаянии и широкой образованности он всюду заводил себе друзей. Во время гражданской войны он работал в политических органах Красной Армии, затем в Наркомпросе, затем Наркоминделе, снова в Наркомпросе, в «Правде», преподавал в Институте красной профессуры. Соответственно в гости к нему пришли военные, дипломаты, композиторы, писатели и артисты, партийные работники, слушавшие его лекции в Свердловском университете и ИКП, и, наконец, художники друзья Маши и несколько сотрудников ЦКК — товарищи по службе Раисы Самойловны. Были здесь и несколько студентов, друзей Аркадия, в том числе Готлиб и Федя, и подружки Киры по школе. Но те и другие держались скромно, в стороне, пялили глаза из темных уголков на московских светил, сидевших, ходивших по комнатам, оживленных и зевающих.
Отсутствие Виктора Васильевича не смутило гостей: с ним это бывало часто — созовет гостей, а сам опоздает на час — на два, но тем не менее, поскольку не было того центра, который объединил бы всех за столом, гости разбились на отдельные кучки, группирующиеся вокруг того или иного наиболее интересного или наиболее активного человека.
В кабинете, у письменного стола Виктора Васильевича, много народу окружило комкора Орешко, только что приехавшего с Дальнего Востока, где он участвовал в боевых действиях в связи с конфликтом на КВЖД. Этот конфликт — первая проба сил Красной Армии после гражданской войны — был теперь у всех на устах. Конфликт кончился быстрой и решительной победой Красной Армии, а быстрота и решительность победы, по-видимому, имели в настоящий момент особое значение: они послужили предупреждением не только китайцам.
Комкор Орешко рассказал о ходе операции под Санчагоу, которая кончилась окружением и пленением почти стотысячной армии генерала Ляна.
И вот на зеленом письменном столе Петрова-Полетаева командир корпуса изобразил ход операции перед склонившимися над столом сугубо штатскими в своем большинстве людьми. И так как он обладал талантом живописания словом, а в помощь слову привлекал то спичечную коробку, то чернильницу, то карандаш, то жест большой руки — большой, короткопалой, поросшей русыми волосками, красной на фоне яркого света настольной лампы и смуглой, когда она выносилась из-под света лампы, когда Иван Трофимович Орешко, сам восторгаясь и желая, чтобы восторгались другие, разводил руки вширь на уровень своих плеч, как дирижер, вытягивающий из своего оркестра «престо» и «фортиссимо».
Когда он для изображения станции клал на зеленое сукно спичечный коробок, а для изображения железной дороги или реки — карандаш или линейку, то казалось, что настоящие поезда, гудя, несутся мимо настоящих станций, и, когда он левой пятерней не спеша проводил по столу полукруг и останавливался у корешка книги, изображавшей город, то казалось, что видишь верховых красноармейцев конного полка, зашедших в тыл белокитайцам; пальцы, замерев возле книги, начинали постукивать нервно и быстро по сукну, как сдерживаемые кони копытами.
— Я все никак не мог понять, — сказал он внезапно, отстраняя от себя папиросные и спичечные коробки, книги, линейки и резинки и усаживаясь мальчишеским движением на угол стола, — почему китайские солдаты, попадающие к нам в плен, часто пытаются кончить самоубийством. Откуда страх у них. Тогда я велел принести агитационную литературу, которую распространяли среди китайцев. Что там только не писали! Китайские генералы раскопали историю о том, как в Амуре в девятисотые годы потопили две тысячи китайских рабочих… И еще каких только историй не раскопали или не придумали! Пришлось вместе с политуправлением принять меры, чтобы китайские рабочие и крестьяне отличали как-нибудь царскую власть от нашей рабоче-крестьянской… И надо сказать, что наши красноармейцы и краснофлотцы показали высший класс пролетарской солидарности. Китайским пленным первым отдавали обед, обувь, им раньше, чем нашим солдатам, перевязывали раны. Наши отдавали им последний свой табак. Даже табак! Сахар им давали. Они сахар особенно любили — редко его видят. На китайцев особенное впечатление, кроме сахара и табака, производили товарищеские взаимоотношения между нашим начальствующим и красноармейским составом. Они были удивлены и обрадованы. Говорили: "Шибко шанго красный капитан, наша капитана не шанго, наша капитана бьет, рубит голову, наша буржуя не шанго…"