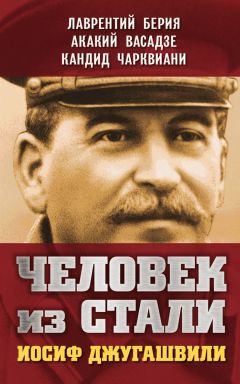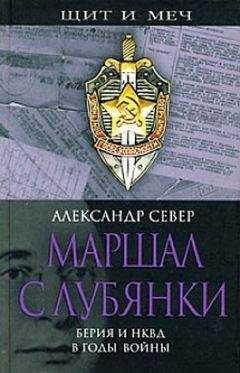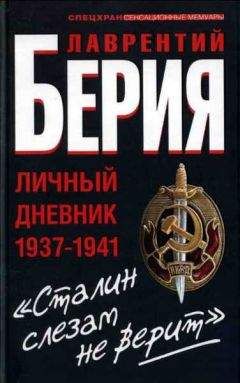Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
Декоративная роспись, созданная Судейкиным за несколько дней «на страшном темпераменте», сияла на сводах в первозданном великолепии: состязались Пьеро и Арлекины, плясали арапчата, загадочно улыбались красавицы, полыхали крыльями сказочные птицы, и всюду тянулись к сводам огромные фантастические цветы – небесно-голубые, ядовито-зеленые, алые, бордовые… Сияющий Пронин в бархатном академическом берете, приличествующем титулу «доктора эстетики honoris causa» (как было проставлено на его визитках), бросился к Гумилевым:
– Ба, кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Идите! – торжественным жестом он указал куда-то в пространство. – Наши уже все там!
Роспись была единственным украшением подвала, интерьер же был изящно-скромный: кустарные плюшевые диваны у стен, деревянные некрашеные столики, уютный камин, миниатюрный буфет, крохотный помост сцены. В глаза бросался только большой круглый стол с 13-ю табуретками в самом центре большого зала и свисающий над ним деревянный обруч люстры на 13 светильников. Евреинов, встав коленом на табурет, цеплял к одному черную бархатную полумаску, а актриса Ольга Высотская, смеясь, перебросила рядом длинную белую перчатку…
Гостей оказалось больше, чем ожидали устроители: помимо режиссеров и актеров «Общества интимного театра» тут собрался весь «Аполлон» с Маковским во главе. Пришли великий Михаил Фокин, хореограф парижских «Русских сезонов», и его балетная прима Тамара Карсавина. За столиками обменивались первыми впечатлениями от нового «арт-кабаре» мариинские оперные примадонны Евгения Попова и Наталья Ермоленко-Южина, трагики Александринки Василий Далматов и Юрий Юрьев, модные музыкальные критики Вячеслав Каратыгин и Альфред Нурок, композиторы Михаил Гнесин и Анатолий Дроздов, искусствоведы граф Зубов и князь Волконский, профессор Е. П. Аничков, архитектор Бернардоцци, любимец Петербурга клоун Жакомино, студенты консерватории Сергей Прокофьев и Юрий Шапорин. «Посетители «Собаки» в тот вечер представляли собой квинтэссенцию артистического Петербурга, и появление некоторых из них на нашей маленькой эстраде было глубоко радостным для всех нас событием», – вспоминал актер Коля Петер (Николай Петров), которому Пронин поручил вести новогоднюю программу. Из-за обилия импровизированных номеров приходилось поминутно отступать от заготовленного сценария. Алексей Толстой, автор написанной к открытию артистического подвала одноактной пьесы об аббате, родившем ежа (!), едва оглядев собравшихся, тут же – в шубе нараспашку, цилиндре, с трубкой в зубах – протиснулся к Петеру и потребовал снять «ежово действо»:
– Не надо, Коля, эту ерунду показывать столь блестящему обществу…
Пронин произнес «спич». Всех «друзей собаки» он приглашал на регулярные «интимные собрания» по средам и субботам – собрания, на которых «всякие выступления не обусловлены заранее, а всецело зависят от общего настроения». Вслед за ним юный поэт Всеволод Князев исполнил под музыку Шписа фон Эшенбрука сочиненный к случаю «собачий гимн»:
Во втором дворе подвал,
В нем – приют собачий.
Каждый, кто сюда попал, —
Просто пес бродячий.
Но в том гордость, но в том честь,
Чтобы в тот подвал залезть!
Гав!
Похожий на сказочного царевича белокурый Князев радостно улыбнулся и азартно залаял. Художник Николай Сапунов, один из главных устроителей вечера, захохотал; оскалился в улыбке усатый композитор Илья Сац, сидевший близ рояля; а вслед за ними хохот, завывание и разноголосое тявканье прокатились среди всей «собачьей публики»:
Лаем, воем псиный гимн
Нашему подвалу!
Морды кверху, к черту сплин,
Жизни до отвалу!
Лаем, воем псиный гимн,
К черту всякий сплин!
– Гав! Гав!! Гав!!! Гав!!! – оглушительно загремело под сводом с птицами и цветами, а Судейкин, наклонившись к Гумилеву, зашептал:
– Хороши цветочки? Это – «Цветы Зла», помните, у Бодлера?…
C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets répugnants nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent…[201]
Вернувшись домой после невероятной, шумной и блестящей ночи в новогодней «Бродячей собаке», Гумилев узнал, что Машенька Кузьмина-Караваева, едва ступив на итальянскую землю, умерла.
III
Последние месяцы «вечного мира» в Европе. Московские «младосимволисты» и журнал «Труды и дни». Несчастья Михаила Кузмина. Отречение от символизма. Издательство «Цеха поэтов». Чествование Ахматовой и Михаила Зенкевича. Поездка в Италию. Слухи о гибели «Титаника». В Оспедалетти. Генуя, Пиза, Флоренция.
Високосный 1912 год стал последним, который Старый Свет, поделенный на «Тройственный союз» Германии, Австро-Венгрии и Италии и «Тройственное согласие» («Антанту»[202]) Великобритании, Франции и России, встречал незыблемым миром, установившимся в общем «европейском концерте» великих и малых держав четверть века назад. Предоставив государственным лидерам и их министерским кабинетам вести словесные баталии на всевозможных политических конференциях, умудренная и осторожная Европа слышала в последний раз боевую канонаду лишь в былинных 1870-х. С той поры военное кровопролитие превратилось в удел экспедиционных войск, которым противостояли далекие заморские племена. Европейские же народы состязались друг с другом на промышленных выставках, финансовых биржах, спортивных аренах и особенно – в рекордных свершениях человеческого гения, покоряющего природные стихии. Вот и теперь новогодний канун ознаменовался потрясающей гонкой, разыгравшейся в Антарктике, где две конкурирующие экспедиции – норвежца Руала Амудсена и англичанина Роберта Скотта – одновременно устремились к неоткрытому доселе Южному Полюсу. Кроме того, газеты и журналы трубили о новом рукотворном чуде инженеров и рабочих компании «Харланд & Вольф», создавших на верфях ирландского Белфаста величайший пассажирский корабль в истории мореплаванья. Монстра водоизмещением 52 310 тонн нарекли «Титаником», и весной он должен был появиться на уже открытом под маркой англо-американского синдиката «Белая Звезда» трансатлантическом «маршруте миллионеров»[203]. Внутренняя отделка и условия для путешественников на сказочном лайнере затмевали все представления о роскоши и комфорте, а главное, по словам конструкторов и капитана, – он был непотопляемым. На последнее особенно налегали газетчики, превратившие «Титаник» в символ торжества европейского прогресса. Это было рискованным сравнением. Катастрофы настигали Европу, и война стояла у дверей. В минувшем 1911 году Германия едва не сцепилась с Францией из-за колоний в Северной Африке[204], а Италия уже вовсю воевала там с Османской Империей за земли Триполитании[205]. Но и теперь благоденственный мир, установившийся в Старом Свете, представлялся большинству благодушных европейских обывателей – «вечным»!