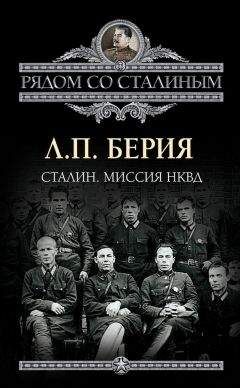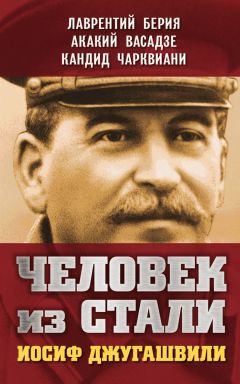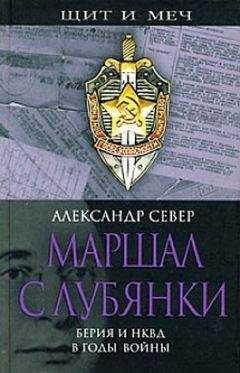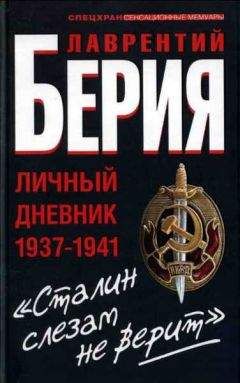Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
До деревеньки Халилы, затерявшейся в лесах финской волости Уусикиркко между Териоками и Выборгом, Гумилев добрался назавтра за полдень (путь – по железной дороге и затем в экипаже от станции – был неблизким). Климат в окрестностях озера Халиланярви считался целебным. Частная лечебница для чахоточных возникла тут еще в минувшем столетии, а после того, как земли выкупила императорская канцелярия, благотворительное ведомство вдовствующей императрицы Марии Федоровны воздвигло в Старой, Новой и Малой Халиле огромный многокорпусный лечебно-оздоровительный комплекс для легочных больных, с особым городком для медицинского персонала, гостевым домом, почтой, церковью, библиотекой-читальней, школой для малолетних пациентов и даже с внутренним хозяйственным узкоколейным сообщением. Все это было скрыто в грандиозной лесопарковой зоне, тянущейся вдоль озера, и выступившие неожиданно из-за заснеженных еловых лап фонари, террасы, колонны, балконы и церковные маковки напомнили Гумилеву сказочный замок Спящей Красавицы в заколдованной чаще:
Стоит ее хрустальный гроб
В стране, откуда я ушел…
Методика лечения, разработанная врачами Халилы, сводилась к особой системе пользования свежим воздухом с постоянной «гимнастикой легких». Ухоженный лесопарк с лабиринтом тропинок недаром окружал больничные хоромы: больным предписывались ежедневные прогулки по особым маршрутам с обязательным отдыхом на умело расставленных скамейках (об этом напоминали прикрепленные на их спинках надписи) и с особыми памятными столбиками, у которых следовало остановиться и глубоко вздохнуть назначенное количество раз. Тут повсюду все гуляли, в одиночку или в сопровождении сиделок, как будто с утра до поздней ночи, расцветающей фонариками по лесным изгибам аллей, шло непрерывное праздничное шествие потусторонних полулюдей-полутеней.
В финской Халиле, в головокружительной лесной красоте Семиозерья, сопровождая закутанную в шубку невесомую Машу от одного дыхательного столбика до другого (с непременным отдыхом на скамейках), Гумилев прожил очень важные в своей жизни сутки, точнее – два неполных дня, о которых мало что известно. Они говорили об ангелах и о рае; она просила его остаться еще; он не остался:
Знаю, томясь смертельной тоскою,
Ты повторяла одно: «Вернись!»…
Гумилев покидал Халилу, не столько по своей воле, сколько по необходимости выполнить судебное предписание: в конце октября его настиг двухлетней давности (!) иск по делу о дуэли с Максимилианом Волошиным. Петербургский Окружной суд из-за отсутствия обоих обвиняемых около года отлагал рассмотрение дела, однако в октябре 1910-го все-таки принял решение заочно приговорить дуэлянтов к домашнему аресту – «поэта Гумилева» на семь дней (как вызывавшего), «беллетриста Волошина» – на один (как принявшего вызов). Еще год потребовался, чтобы исполнители Окружного суда смогли довести до Гумилева приговор, но в конце концов неторопливая российская Фемида все-таки восторжествовала: pereat mundus et fiat justicia![193]
Российское «Уложение о наказаниях» не определяло порядок отбывания домашнего ареста, представляя суду самому оговаривать налагаемые на осужденного ограничения и условия контроля в каждом отдельном случае. Какие арестные ограничения и условия получил Гумилев, неизвестно, но, если принять в расчет состав совершенного им проступка, вряд ли к нему был применен полицейский надзор или тем более приставлена стража. Скорее всего, он просто дал слово дворянина (сословный характер применения такого вида наказаний законодательством подразумевался) с заранее оговоренного времени не покидать особняк на Малой улице в течение недели – и слово, разумеется, сдержал. Из-за этого он вынужден был письменно извиниться перед Михаилом Кузминым, приглашавшим на именины, и пропустить – уважительная причина налицо! – очередное заседание «Цеха поэтов» (в свою очередь, проводимое из-за домашнего ареста «синдика № 1» на выезде). Впрочем, очевидно, что через «подмастерья-секретаря» Гумилев немедленно получил исчерпывающие сведенья о состоявшихся в Манежном переулке[194] чтениях и дебатах, равно как и о первой успешной (хотя и с перевесом всего в один голос – 4:3) баллотировке в состав «Цеха» студента-филолога Михаила Лозинского, креатуры Василия Гиппиуса. У Лозинского на Васильевском острове было назначено следующее заседание. Новый «подмастерье» являл собой сочетание добродушного «белоподкладочника»-сибарита[195] с редкой эрудированностью и остротой ума. Но главным открытием василеостровского собрания 20 ноября стал не гостеприимный остроумец Лозинский, а Осип Мандельштам, состязавшийся за право поступить в «подмастерья».
В те же пасхальные дни 1911 года, которые чудесами и видениями преобразили Гумилева, иудей Мандельштам, гостивший в Выборге, неожиданно принял крещение в общине местной методистской епископской церкви:
«Здесь я стою – я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра[196].
Пастор Нильс Розен, производивший допросы, касающиеся веры и обязанностей христианина, предварявшие крещение, был незаурядным миссионером[197] и сумел донести до неофита главное в методистском вероучении – каждый подлинно культурный человек и есть христианин, а «церковь» представляет собой не что иное, как «культуру». Одухотворенную и плодотворную культурную деятельность методисты считали непосредственным и главным выражением христианской веры. Торжество христианства было для них торжеством бытового, технического и научного прогресса, делающего жизнь людей богаче, чище, красивее и, как следствие, гуманнее[198]. В свете вероучительных бесед с пастором Розеном Мандельштам переменил взгляд и на задачи поэзии. Теперь вместо мистических туманов и озарений он был склонен воспевать кинематограф, спорт, великие открытия и архитектурные красоты:
– Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство.
Чудесное превращение утонченного мистика-символиста в горячего сторонника цехового «ремесленничества» было внезапным, неожиданным и, разумеется, радостным для руководителей «Цеха». Но Мандельштам стал не единственным их приобретением. В «подмастерьях» Гумилева и Городецкого оказался и Владимир Нарбут, молодой малороссийский помещик, приехавший из Глухова в Петербургский университет шесть лет назад и с той поры промышлявший на жизнь публикациями стихотворений «о природе», которые выходили из-под нарбутовского пера в невиданных количествах. Его лирическими пейзажами и эпическими лесными и полевыми зарисовками были наполнены стихотворные отделы «Сельского вестника», «Светлого луча», «Журнала для всех», «Русского паломника», «Пробуждения», «Стража», «Нивы», «Новой Жизни», «Вестника Европы», «Современного слова», «Всеобщего Журнала», «Родины», «Современного Мира», «Севера», «Жизни для всех», «Биржевых ведомостей», «Нового Слова», «Всемирной Панорамы», «Родной Страны», «Солнца России», «Родника», «Голоса Земли» и «Воскресной вечерней газеты». Но, кормясь «природными» стихами, одаренный и темпераментный Нарбут умудрялся разнообразить приемы творчества, не казался ни графоманом, ни литературным поденщиком. Если Гумилев в «Письмах о русской поэзии» иронизировал над нарбутовской «специализацией», то Городецкий, напротив, приветствовал такую верность патриархальным истокам и корням: