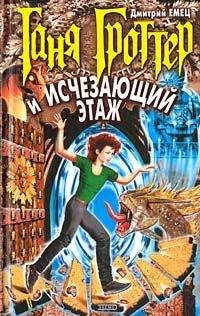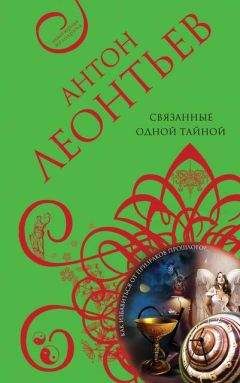Таня Перес - Дитя дорог
Нет! Нигде нет! Что делать?
В отчаянии я сажусь на диван, для удобства, пододвигаю валик и… какое счастье! Под валиком лежит мой документ.
– Нашла! Нашла! – во весь голос ору я.
Открывая документ, смотря в глаза своему собственному лику, который улыбается мне до ушей. С большой гордостью, я подаю этот документ «офицеру», который успел посадить Симочку на свое колено и счастливо улыбается, смотря на это очаровательное существо. Я вижу, что лицо Милы стало таким, каким оно было когда-то. Все смеются, только не я.
– Мы должны уходить. – Сказали с сожалением солдаты. – Будьте здоровы, красивые девочки, и эта маленькая очаровательная красавица. – Они направились к двери, и мы их провожаем. Все улыбаются. Все довольны. Вдруг «офицер» останавливается и жестким тоном спрашивает:
– Что ты делаешь в этом христианском доме? Ты же жидовка из соседнего дома?!
– Это правда, а как вы думаете, нельзя быть подругой не жидовки?
Офицер серьезно посмотрел и говорит:
– Дружба – очень хорошая вещь. Может когда-нибудь придет время, и мы все будем друзьями! Весь мир!
Bсе, кроме нас, расхохотались. Я даже немного обиделась.
– Скажи, ты не хочешь вернуться в ту квартиру? Я провожу тебя. – Спросил меня один из солдат.
– Нет, нет. Я останусь спать здесь до утра.
– Уже почти утро. Мы тоже должны скоро вернуться в участок. Спокойной ночи, девочки.
Наконец, они вышли. Мы упали в объятья друг друга, плакали и смеялись. Наша маленькая Симочка танцевала вокруг нас. Мы решили, что эта история закончилась, но нет! Есть продолжение.
Когда солдаты выходили, Шарик открыл все свои голосовые связки и запел свою песню и почти заплатил своей жизнью за свое геройское поведение. Они его били своими тяжелыми сапогами и, по его отчаянному вою, мы поняли, что это было очень больно.
– Проклятая собака! – кричат они. – На нас нельзя лаять! Проклятая украинская собака.
Они ушли. Мы обе бросились на двор, и нашли Шарика лежащего на ступеньках. Он выл тонким несчастным голоском. Наверно была страшная боль. Мы сидели возле него, плакали и гладили, гладили и плакали.
46.
На следующий день жизнь вернулась в свое русло.
В доме госпожи Эсфирь я превратилась в «персону нон-грата». Проще говоря, на нашем языке, нежелательная личность. После истории с документом, они вообще не говорили ни о чем в моем присутствии. Они просто остерегались меня! несмотря на это, я продолжала спать в кровати госпожи Эсфирь, и, конечно, платила ей пятнадцать марок и ни копейкой меньше. Я их честно зарабатывала в Балтийской больнице. Ежедневно я ходила в больницу с Гавриловой Марьей Александровной, Милочкиной мамой, с прекраснейшей из женщин, которых я когда-либо встречала.
Вроде бы жизнь протекала как обычно. Фабрика сплетен работала в полную силу. Все говорили, все сказали:
– Тихо, тихо. Могут услышать.
В особенности это происходило, когда говорили о наступающей русской армии.
Поезда, переполненные немцами, пролетают нашу станцию, даже не останавливаясь. Румынские жандармы становились все более нахальными. В гетто проходили патрули и облавы шли с утра и до утра. Обыскивали каждую щель. Обычные солдаты, немецкие и румынские, не могли пройти в нашу часть города из-за строжайшего приказа не общаться с жидами. На мосту нас все время проверяли.
Был июль 1943-го. Жара. Удушье. Влажность. В любом случае надо идти на работу. Остаток дня, а иногда и ночи, я проводила с Милочкой и детеми. У детей не было обуви, и мы не могли вывести их на улицу. Я пошла в «комитет» дяди Павла, и спросила, есть ли у них на складе обувь для маленьких детей.
– Я могу проверить. А для кого это?
– Для детей… м-м.. Марьи.. Александровны.
– Конечно, я поищу. Им все это полагается. Она очень хорошо тобой занимается! А ты, Танюша, хочешь кусочек колбасы.
Конечно, хотела. Я все время была голодной. Мои ноги стали длиннее, поэтому я становилась все выше и выше. Дядя решил, что мое зеленое платье слишком короткое. Мы вместе пошли на склад. И теперь я все поняла!
Кучи платьев и разных вещей разбросаны по полу. Теплые вещи в одной стороне, а летние в другой. Женские и мужские, все вместе. Были там и туфли. Мы с легкостью нашли там две пары обуви. Побольше – для Юлика, а совсем маленькие для Симочки. Я надеялась, что это подойдет.
– А сейчас для тебя.
Он подходит к висящим платьям. Опять зеленое платье, на этот раз летнее. Другое платье белое, очень широкое. Наверно, для девочки старше меня, для подростка. Мне захотелось взять оба. Дядя Павел взял мешок и решил бросить туда платья и туфли.
– Я не хочу выходить отсюда с мешком!
– Почему? Я всем раздаю. Все выходят с мешками. Все берут гораздо больше, чем ты берешь.
– Я не хочу и все. Я возьму газетную бумагу.
– Здесь нет газетной бумаги. Откуда в гетто газеты?!
Я вспомнила, что у меня в комнате было полно русских газет. Вероятно, их принес Рувка. Ничего не говорю. Беру это замечательное белое платье, стелю его на пол и кладу на него все остальные вещи, чтобы сделать из него узел. В этот момент дядя Пава схватил это белое платье и швырнул его подальше от меня.
– Почему ты это сделал?
Мое горло пересыхает. Я подхожу к этому платью и вижу… огромные пятна, коричневые пятна. Это кровь! Так выглядит кровь, когда она засыхает… Я молчу.
– Это платье грязное, – говорит дядя. – Ты не видишь, что оно грязное? Я принесу тебе другое, но не сейчас. Давай выйдем отсюда.
Перед выходом, он снял свое пальто, вынул все вещи, которые мы взяли, и взял это подмышку. Мы идем по улице, молчим всю дорогу.
– Таточка, – говорит дядя, входя в свой кабинет. – Я хочу с тобой поговорить. Ни Миле и уж тем более «дамам» из дома Эсфирь Яковлевны ни говори не слова.
Прежде чем уйти, я оборачиваюсь и спрашиваю:
– Дядя Пава, это белое платье… это правда… эти пятна – кровь?
Он не ответил. Я вышла.
В тот день я не пошла в дом госпожи Эсфирь. Я подхожу к самому далекому забору, вытаскиваю все вещи и кладу их, красиво сложив, под забором. Потом я иду к Миле. Я сажусь у стола и не знаю, что делать.
– Ну, Таня, что ты сидишь там?
– Мила, я была с дядей Павлом на складе, я хотела принести тебе несколько вещей.
– Так где эти вещи?
– Я ничего не взяла.
– Почему?
– Они были очень грязными. Я не буду кушать. Я должна пойти к дяде.
– Что случилось? Что? Ты же ненавидишь это место?!
– Он сказал, что хочет со мной поговорить.
– Ну, хорошо, иди. А я приготовила что-то очень вкусное из кукурузной муки.
– Что ты сделала?
– Приготовила оладьи!
– Хорошо, оставь мне одну.
Я чувствовала тошноту. Я не была уверенна, зачем он меня пригласил, но я что-то чувствовала… Что-то нехорошее. Не знаю что. Я зашла в дом белорусок. С трудом ответила на их восторженные благословения.