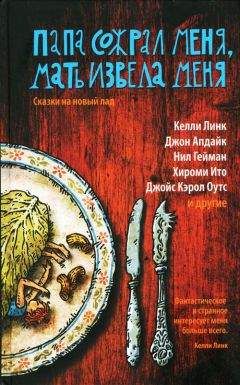Марина Цветаева - Автобиографическая проза
— Раз он портной, пусть смотрит сам. Его дело!
Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил сознательного взгляда в зеркало. Безмолвные примерки, за которыми следовало глухое, медвежье ворчанье:
— Семьсот рублей за одежду — да это форменный грабеж! Прикинем: на семьдесят пять рублей сукна, да на сотню серебряного и золотого шитья, — материал и работа — да полсотни портному… ах, еще на подкладку рублей двадцать пять — вот вам всего-навсего двести пятьдесят — и это хорошая цена! Пусть будет, для очистки совести, триста. Куда же деваются еще четыре сотни? Кому?
— Но, папа, ведь придворный портной берет за работу не пятьдесят рублей, как обыкновенный.
— Придворный, обыкновенный. Есть только два разряда портных — плохие и хорошие. А для меня все они хороши, было бы во что вдеть руки и ноги! Придворный портной! Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово «двор»!
___________
Наконец мундир готов, и мы помогаем отцу попасть в рукава и застегнуться на все крючки.
Восклицания восторга: «Какая красота! Как ты в нем хорош! Да посмотри же на себя!»
Он бросает в сторону зеркала растерянный и недоверчивый взгляд близорукого — чтобы тотчас же отвести глаза.
— Хорош! — даже слишком! (И, повторяя привычный свой припев:) Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!
— Так это же не на себя, а для музея, папа!
Он, настораживаясь:
— Постой, постой, постой… как ты сказала?
— Для музея. Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей — твоим новым мундиром. Мраморный музей — золотым мундиром.
— У тебя красноречие твоей матери. Она все могла со мной сделать — словами.
— Да ведь это не слова, папа. Это — глазами видишь. Белая лестница музея, а наверху, меж двумя колоннами — ты. В темно-синем, серебряном, золотом… Посмотри, что за прелесть это шитье! Листья… веточки…
— Если бы не золото!
— Но ведь оно — почти совсем не золото! Так — тень золота, едва заметная, даже чуть зеленоватая. Скромный, благородный вид!
— Да, в глаза как будто бы не бьет. Но выглядеть такой… иконой!
И — со вздохом:
— Разве что для музея…
IV. ПРИЮТ
По делам Музея отец часто бывал в Германии и всегда останавливался в каком-нибудь странноприимном доме: убежище для людей почтенных, но незажиточных.
— Встают в шесть часов под звуки колокола.
— А ты?
— И я: это полезно для здоровья. Потом женщины моют полы, мужчины бреются.
— И ты тоже? (У отца никогда не было бороды, но были большие усы а ля Клемансо.)
— И я. — Потом все поют благостные песнопения.
— Неужели ты тоже?
— И я.
— Но, папа, как ты можешь петь, ты же фальшивишь.
Он, соглашаясь,
— Да, я немного фальшивлю, но пою так тихо, чтобы меня никто не слышал, я только чуть-чуть открываю рот.
— Но они же протестанты! (Это говорит наша гувернантка, которая грезит о монастыре.)
— Да, протестантские. Но голоса прекрасны и слова тоже. А потом все пьют кофе с молоком… и уходят — до вечера.
— Папа, а это не Армия спасения!
Папа:
— Может быть, но в это не очень верится, ведь за все время я не встретил никого в форменном платье.
V. ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
(Перевод А. Эфрон.)
День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.
Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему — явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой дамы - с громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, — и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.
Это — наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери — Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка — княжеской крови и романтической души.
Отец, разглядев посетительницу:
— Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде… Не знал, что это вы, думал — курьер… Позвольте, я… (смущенно показывая на халат).
— Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван Владимирович! Так — гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно — тогу. Даже на греческий пеплум. Да.
— Но… (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык…
— Уверяю вас — настоящая тога мудреца! К тому же, через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни — и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было создать. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить — до последнего вздоха. За то, что вы — созидатель. Вот именно — созидатель. Я должна была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам — вот это.
Перед ошеломленным отцом — лавровый венок.
— Позвольте, позвольте, позвольте…
— Наденьте его — сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!
— Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но… лавровый венок… мне?! Это, право, как-то даже и некстати!
(В своей полнейшей отрешенности от внешнего, отец и не задумывается о том, как может выглядеть лауреат в халате!)
— Нет, нет, нет, не спорьте! — посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. — Я должна увенчать вас, хотя бы на мгновенье!
И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским жестом, возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.