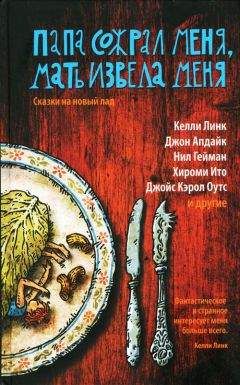Марина Цветаева - Автобиографическая проза
Эти завтраки дней рождений! В нашей большой белой зале, через раздвинутый парадный стол, оглавляемый седовласой немкой, среди других лиц, милых, молодых, румяных — бледное русо-бородое и -усое лицо Анатолия с неустанно-вперенным в одну из нас взглядом.
— Марина! За вашу тайную мечту! Ася, — за нашу!
— Что-о-о?!
— Um Gottes Willen, Kind, schrei doch nicht so furchtbar![89]
— Хороший молодой человек, — резюмировала немка после каждого его посещения. — Тихий, почтительный, с хороший манер. Только, schade,[90] что у него такое Käsegesicht.[91] Ему бы надо делать гимнастик и кушать побольше компот с чернослив.
Прислуга же, всем животным чутьем простолюдина, Анатолия не выносила.
— Ни за что, Асенька, не идите за них замуж! Они хотя и полные и белые и как будто даже голубоглазые, а какие-то (шепотом)… поганые. Очень уж тихие. Беспременно бить будут. Или щипать с вывертом. Или даже булавки вкалывать. Потому что душа у них самая змеиная.
Точным разлетом маятника от младшей к старшей жених проколебался ровно год. Именно, от младшей к старшей, ибо с первой минуты было ясно, что предпочитает он из двух зол меньшее, то есть Асю, меньшую ростом и с большими волосами и надеждами, и отделяемую от него только живой и постоянно сменяющейся стеной, летом — крестьянских мальчишек и девчонок, зимой — мальчишек и девчонок городских. Между ним же и мной стоял непреложный утес Св. Елены. Ибо только он: — «Марина, у вас глаза совсем как у дриады…» — я, по совершенно чистосердечной ассоциации: — «А какой ужас, что на Св. Елене не было ни одного дерева, то есть были, но как раз не там, где был Наполеон. Вы бы, если бы жили тогда, убили бы Hudson Low’a?» Как же тут было продолжать о дриадах? Дриаду я назвала не случайно, ибо жених был ими — дриадами, наядами, русалками и весталками — начинен. Перепробовав на мне всех героинь древности и Мережковского и отчаявшись когда-либо что-либо в ответ услышать, кроме проклятий Марии-Луизе и восхвалений гр. Валевской, приехавшей к нему на Эльбу, жених, наконец, отстал: отвалился. Шли еще четырехстраничные стихотворные посвящения, шли еще честные, в упор, взгляды, заставлявшие меня (ибо для того и шли!) опускать глаза, но все это было уже на авось, про запас, «впрок» — на случай, если Ася, действительно, не… А Ася — люблю девическое тринадцатилетие! — действительно не — и ни за что.
— Когда же вы, Ася, оставите все эти сеновалы и костры в унижающем вас обществе всяких Мишек и Гришек? Когда же вы, Ася, наконец, вырастете?
— Для вас — никогда.
— Наконец, прозреете?
— На вас — никогда.
— Как вы еще молоды! Слишком молоды!
— Для вас — навсегда.
В Москве же Толины дела еще ухудшились, ибо в Тарусе земля слухом полнилась: слухи доходили водою, сама Ока рассказывала жениху, с кем вчера на дырявой лодке каталась его тринадцатилетняя невеста, с кем на песках до трех часов утра и полной хрипоты орала: «Трансваль, Трансваль, страна моя»… В Москве же все следы заливали ливни и заметала метель. Впрочем, первая обо всем извещала сама Ася.
— А я с одним реалистом познакомилась, Толя, у него вот такие глаза! Черные, как у Пушкина.
— У Пушкина глаза были голубые. (Цитата.)
— Врете, Толя, это у вас голубые. Зовут его Паша, а я зову пашá. — И т. д., и т. д. Нужно сказать, что Ася была очень хорошенькая — милой, особой, своеобразной грации, и если не крушила сердец, то по своей, безмерной уже тогда, человеческой и женской доброте, прекращавшейся только на Анатолии.
— Если бы вы еще походили на Анатоля из «Войны и мира», — задумчиво говорила она, глядя на него то с правого бока, то с левого, — но так как вы похожи на Левина, и даже не на Левина, а…
— Вам слишком рано дают читать серьезные книги… — перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.
— А такая книга, как вы, — не рано? Такие книги лучше не читать никогда.
___________
— Папа, как тебе нравится Анатолий?
— Наш новый дворник?
— Нет, папа! Наш дворник — Антон, а это — студент, Тихонравов.
— А-а-а… Он, как будто, не особенно далекий? — (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой-то странный запах…
И эта аттестация — в ответ на «petits soins»,[92] которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное — складу, и в голову не могло прийти.
Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько-то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошло-летние зарубки роста. Мы перешли в последние сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка — жирная раздавленная гусеница.
— Дурак, — сказала Ася холодно.
— Автопортрет, — уточнила я.
Под гусеницей фраза: «Берегите себя для себя и для меня».
— Наглец. Он пишет, точно я уже в таком положении! И тут же, одним махом, на обороте: «Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось».
— Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит! Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя черта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.
___________
Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая.
— Марина, пойду служить в Музей.
— С ума сошла! Там теперь Анатолий — директором.
— Анатолий — директором?! И даже не женясь на нас? Ну и счастливец!
— Не только не женясь на нас, но женясь на самой обыкновенной, как надо, барышне.
— Как надо — барышне? Нынче же иду в Музей!
Возврат и рассказ:
— Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. — «Вы давно приехали?» — «Вчера». — «Что вам угодно?» — «Место в Музее». — «Свободных мест нет». Тогда я ему, очень кротко, но четко: «Может быть, для меня найдется? Вы все-таки, Толя, подумайте». — «Подумаю, но — если что-нибудь и найдется, то не…» — «Я и не претендую». И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая — куда нам даже тогда! — по-настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что-то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком-то упоении происходящим, простояла.