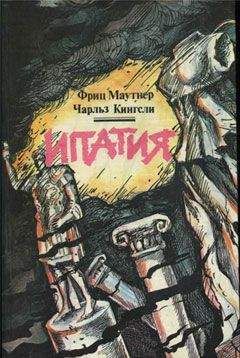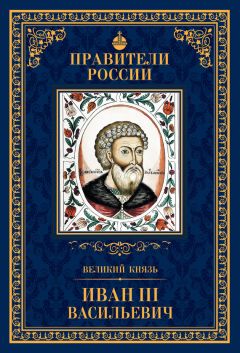Иван Майский - Перед бурей
всегда делала это с учетом моего самолюбия. А ведь
мальчишки в пятнадцать-шестнадцать лет дьявольски са
молюбивы! К тому же я от природы отличался упрямством
и самостоятельностью.
— Ну, на что это похоже? — часто бывало говорит
мать. — Ты — эгоист, ты сух и бессердечен, ты ни с кем
не уживаешься, ты всем норовишь сказать что-нибудь гру
бое и неприятное... Разве так поступают хорошие сыновья?
— А зачем мне быть «хорошим сыном»? — саркастиче
ски отвечаю я. — И
мые «хорошие сыновья» действительно являются хоро
шими?
170
где доказательства, что так называе
— Ты молод и ничего не понимаешь! — начинает горя
читься мать. — Ведь я стараюсь для твоей же пользы. Вы
растешь — сам благодарить будешь.
— Что ты все о моей пользе печешься? — возражаю
я. — Я сам о себе позабочусь. Есть голова на плечах. Про
сто ты хочешь подогнать меня под известные рамки, ко
торые тебе привычны. Но я этого не желаю. Я не позволю
родительскому деспотизму насильно связывать мою волю.
Мать приходит в раж, краснеет, начинает кричать, что
я «дерзкий мальчишка», что она готова «отказаться от
меня», что в сорок лет я пожалею о своем теперешнем
поведении, и затем, хлопнув дверью, уходит в свою ком
нату. А вечером я берусь за свой дневник и вывожу в нем
строки вроде следующих:
«Моя личность — корабль, рассудок — мой руль, кото
рого корабль слушается. Поверните руль — корабль повер
нется. Но сначала сумейте повернуть руль».
Так как мать мало заботилась о том, чтобы повернуть
руль, стычки продолжались, разлад углублялся, — и так
продолжалось до самого окончания гимназии. Только ле
том 1901 года, перед моим отъездом в университет, когда
мать осознала и примирилась с тем, что я уже перестал
быть ребенком и превратился в взрослого человека, в
семье наступил мир, и мы опять стали добрыми друзьями.
Однако осенью 1899 года война «отцов и детей» была
в полном разгаре. Я вел ее упорно и настойчиво, но она
все-таки тяготила меня и до известной степени нарушала
мое душевное спокойствие.
Еще одним — и очень важным — обстоятельством, от
ражавшимся на моем состоянии, была гимназия. После то
го, что было пережито зимой 1898/99 года, гимназия те
перь вызывала во мне лишь одно чувство — глубочайшего
отвращения, лишь одно желание — бежать подальше от ее
стен. Всякие фиговые листочки были окончательно сдер
нуты в ходе событий прошлого года. Директор, инспектор,
учителя, программа занятий, система воспитания, д а ж е
самое здание гимназии стали мне ненавистны и противны.
В
полном отчаянии я писал Пичужке: «Я положительно с
ужасом думаю о том, что мне еще два года предстоит
оставаться в гимназии». К тому же наш дружный и бое
вой класс теперь как-то «размагнитился» и осиротел: Оли
гера не было, Гоголев и Петросов перевелись в другие
города, наш старый кружок распался, а для нового кружка
171
среди наличного состава учеников подходящего мате
риала как-то не находилось. Я оказался в состоянии
известной духовной изоляции, которую лишь отчасти смяг
чала дружба с Михаилом Марковичем, сидевшим в седь
мом классе на одной со мной парте.
И все это вместе взятое — разлука с Пичужкой, до
машний разлад, враждебность к гимназии, распад круж
ка, отъезд Олигера — создавало у меня чувство одиноче
ства, тоски, беспокойства. Я не находил себе места, я о
чем-то жалел, чего-то хотел, к чему-то стремился. Поэзия
сразу дала выход и вместе с тем перебила все эти на
строения и понесла меня на крыльях творческого увлече
ния куда-то вперед, в неведомую даль...
Скоро одно случайное обстоятельство сразу создало
мне репутацию «поэта», по крайней мере, в стенах нашей
гимназии. Случилось это так. В Южной Африке началась
англо-бурская война. Она сильно всколыхнула тогдашний
политический мир. Россия сразу заняла позицию против
Англии и за буров. При этом произошло любопытное пере
сечение двух совершенно противоположных политических
линий. Царское правительство и связанные с ним офици
альные круги сочувствовали бурам, потому что «импера
торская Россия» враждовала с Великобританией, особенно
в Азии. Либеральные, радикальные и вообще прогрессив
ные слои, в вопросах внутренней политики стоявшие в оп
позиции к царизму, в данном случае также сочувствовали
бурам, потому что они были возмущены, как тогда гово-
рили, «нападением сильного на слабого». В результате вся
Россия, как официальная, так и оппозиционная, оказалась
на стороне буров, и это нашло свое отражение даже в
Омске. В то время во всех домах распевали бурский гимн
и развешивали на стенах портреты бурских вождей, а в
военных, административных и учебных заведениях с раз
решения начальства производились денежные сборы «на
буров». Такой сбор был объявлен и у нас, в гимназии.
Я был горячий «пробур» и повел энергичную агитацию
в пользу сбора. В нашем классе мои усилия увенчались
успехом — было собрано двадцать рублей, но зато в вось
мом классе все, за исключением двоих, отказались что-
либо пожертвовать. Я был глубоко возмущен, и на бли
жайшей большой перемене между седьмым и восьмым
классами произошла крупная стычка, едва не закончив
шаяся кулачным боем. С каждым новым месяцем войны
172
моя симпатия к бурам все больше возрастала. Я радо
вался их победам, огорчался их неудачами. Я жил душой
в Южной Африке, я мечтал о том, чтобы сражаться за бу
ров. Мое поэтическое воображение было целиком захва
чено драматическими событиями в Трансваале и Оранже
вой республике.
Однажды учитель словесности Петров коснулся на сво
ем уроке англо-бурской войны и при этом произнес боль
шую политическую речь.
Класс был очень доволен его неожиданным экскурсом
в современность и сразу же загудел вопросами и коммен
тариями. Вдруг Михаил Маркович, не предупредив меня,
брякнул:
— А вы знаете, Николай Иванович, мой сосед написал
стихотворение о бурах.
— Какое стихотворение? — быстро спросил Петров.