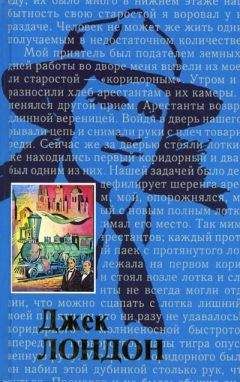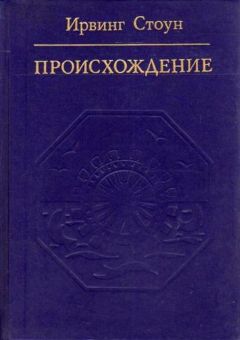Юрий Бондарев - Выбор
Потом в лесу опять был знойный июльский день, ленивая благость солнечного покоя, теплый дух разомлевшей малины, а они двое шли туда, где погромыхивало дальними обвалами, и порой дрожащая горячая пелена заслоняла лес, солнце, траву, и в этой пелене прыгали, скрещивались лучи фонариков на берегу ручья, направленные под обрыв, откуда уже не раздавалось ни одного выстрела, — и он задыхался, царапал грудь, слезы жгли ему щеки, но не становилось легче.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
«Да, сейчас мы увидимся… Но какая несуразность, какая нелепость, что вместе с ним Колицын! В его присутствии не может произойти серьезного разговора между нами!..»
Он привычно вымыл кисти, счистил мастихином краски с палитры, накрыл тряпкой холст на мольберте, после чего протер руки одеколоном и, раздумывая, долго рассматривал в настенном шкафчике бутылки, коробку шоколадных конфет, приготовленную Марией для нежданных гостей, затем взглянул в широкое окно, все серебристо-солнечное, в круглых февральских проталинах, увидел медленно въезжающую во двор меж синеватых сугробов антрацитно-черную «Волгу» («Это он — Илья!») — и жаркий толчок в висках заставил его пройтись несколько раз по мастерской, чтобы унять волнение.
Надо все же сделать спокойным лицо, в меру приветливым («Что это я неискренен, фальшивлю? Хочу встретить Илью как иностранца, приехавшего поглазеть на советского художника и купить картины?»), и следует суховато поздороваться с обоими, сказать Колицыну, что располагает сорока минутами, однако с Ильей надо будет по-настоящему встретиться позже, вместе с Марией.
И Васильев принял это решение, но когда раздались шаги в коридоре, стук в дверь, когда в роскошной меховой шубе, розовый от возбуждения и коньяка, расплываясь одутловатыми щеками, шумно вошел Колицын и за ним проследовал бледный, педантично выбритый высокий человек в сером пальто, в мягкой шляпе, прямой, даже изящный, в котором уже нельзя было узнать лейтенанта Рамзина сорок третьего года, как и при встрече прошлой осенью в Венеции, где он удивил совершенно чужими, незнакомыми манерами, одеждой, интонацией голоса, и сейчас Васильев, против воли опережая его, первый протягивая руку, проговорил излишне уравновешенным, деловым тоном:
— Здравствуй, Илья. Мы с тобой не виделись четыре месяца. Раздевайся. Вешай пальто сюда. Давай я тебе помогу.
— Но, но, но, я справлюсь! — запротестовал Илья оживленно и сам повесил пальто на вешалку в передней, тронул ровно уложенные на косой пробор седые волосы и живо прошел в солнечную мастерскую, прищурясь озирая стены, переводя улыбающиеся, немного воспаленные глаза на Васильева. — Ого! У тебя очень мило и уютно. Ты здесь творишь, Владимир? Ты здесь создаешь?
Владимир поправил его насколько можно шутливо:
— Творю — это громко. Работаю. Творят боги, и то не каждый день.
— Но отлично у тебя, отлично, много солнца! — продолжал Илья и тщательно растер, помял пальцы, будто согревая их; этого жеста Васильев никогда не замечал раньше. — Я рад, Владимир, видеть тебя, очень рад быть у тебя в мастерской!
— Я тоже рад.
Между тем Колицын возился в передней, весело и некстати очищался щеточкой, вытирал ноги, причем мычанием напевал нечто модное, как бы являя характер беспечного, хорошо принимаемого здесь человека, всегда настроенного на приятное времяпрепровождение. Васильев же вспомнил, услышав это мелодичное мычание, его нетрезвое возбужденное лицо, с этими сытыми одутловатыми щеками, его злобную раскрытость в не забытую им ночь, не без досады подумал: «Как он будет сейчас мешать нам!» — и тут же, усадив Илью в кресло («Посиди секунду, я сейчас!»), вышел в переднюю, где Колицын, все еще напевая, щеточкой оглаживал перед зеркалом свой отлично сшитый костюм, сказал ему негромко:
— Послушай, Олег, ты бы оставил нас на часок поговорить. Привез его — и спасибо. Кроме того, знаешь ли, вести разговор мне будет сейчас и трудновато и утомительно.
Колицын царственно отвел назад львиную гриву, его треугольные глаза превратились в трапеции, но щеки, раздвигаясь, продолжали выражать игривое простодушие, не помнящее зла, и он ответил шепотом:
— Не забывай, Володенька, что иностранцами занимаюсь я. О ля-ля! — И, заполняя пространство своей элегантной фигурой, сочным бархатистым баритоном, излучая легкомысленную радужность и довольство любящего мужское общение джентльмена, Колицын ступил в мастерскую, фокусоподобно вытянув из портфеля бутылку армянского коньяку, наклонился над креслом Ильи. — Думаю, господин Рамзин, что потягивать превосходный ароматный коньяк и смотреть картины лучше, чем смотреть картины и не потягивать превосходный коньяк.
Надо полагать, это была светская острота, которая должна быть произнесена в подобном случае, приглашающая посмеяться в избытке хорошего настроения, однако Илья посмотрел на Колицына дружелюбно, словно тот повторял забавный и бесполезный фокус, сказал с улыбкой:
— Благодарю, господин Колицын. Я абсолютно не пью. Давно выпил всю свою отпущенную сроком норму. — Он улыбнулся Васильеву: — Если господин Васильев, мой старый друг по Венеции, угостит меня стаканом молока, буду премного благодарен. Молоко — мой напиток.
«Господин Васильев… Господин Колицын… Господин Рамзин… Мой старый друг по Венеции». Он не хочет, чтобы Колицын знал, как давно мы знакомы. Но Илья, Илья… Господин Рамзин? Вот он сидит в кресле — не Илья, а совсем другой человек. Это господин Рамзин и вместе Илья, оставшийся после войны в Западной Германии, теперь поселившийся под Римом, проживший целую жизнь за границей. Что в нем осталось от лейтенанта Ильи Рамзина, от той ночи, от того июльского утра, когда мы возвращались к орудиям, брошенным в окружении? Как он все-таки попал в плен, он так и не ответил в Венеции. И все-таки как?..
— К сожалению, у меня нет молока! — сказал Васильев и в ту секунду еще не понял, почему мысль об осенней встрече в Венеции была тревожной. — Какая досада, что я не держу молока в мастерской. Я не пью молока.
— Но хоть рюмки-то для гостей ты держишь, Рембрандт? — спросил исполненный добродушного протеста Колицын и откупорил бутылку коньяку, поставил ее артистичным манером на середину стола. — Никогда! Никогда! — уловив вопрошающий взгляд Ильи, вскричал он с театральным возмущением, изображая переливами голоса гостеприимного русского гуляку в приятельском кругу. — Мы договорились, не будем пить, не будем пить — о, нет! Мы лишь наполним рюмки ради этой встречи и, подобно афонскому монаху, не притронемся к ним.
— Афонский монах? Что за афонский монах? — спросил Илья и опять прищурился, лучики жестких звездообразных морщинок прорезались сбоку глаз, но от этого знакомого прищуривания лицо его не обретало, как прежде, самоуверенного выражения нацеленности к действию, а становилось внимательно-усталым, прислушивающимся.