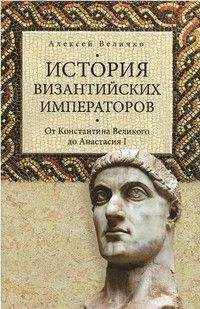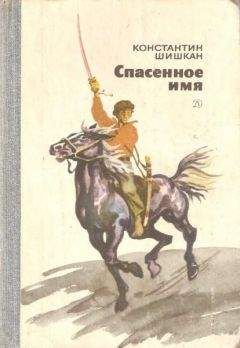Олег Чухонцев - В сторону Слуцкого. Восемь подаренных книг
«Доброта дня» («Современник», 1973): «Олегу Чухонцеву / с жестким предупреждением //Иоанн Четвертый // 1 мая 1574.» и «Продленный полдень» (СП, 1975): «Олегу Чухонцеву // от преданного // сторонника // Борис Слуцкий».
Сторонника кого-чего? — задаю я теперь вопрос себе самому, думая о Слуцком, и не могу найти вразумительного и однозначного ответа. Положим, в тяжбе с издательством он был явно на моей стороне, хотя я и не посвящал его в свои планы. Я о другом: как он относился к происходящему и порядку вещей вообще. Мы не раз говорили об этом по разным поводам, и я жалею, что не узнал его мнение, например, о книге Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», которая пользовалась тогда большой популярностью и не только в диссидентских кругах. «Это все на тысячу лет, — сказал он однажды — и махнул рукой. — Как Византия». Сказал как отрезал. И это, я думаю, многое объясняет в его поведении.
«Люди сметки и люди хватки / Победили людей ума — / Положили на обе лопатки, / Наложили сверху дерьма» — вот его анамнез и эпикриз российской истории ХХ века, и, к сожалению, этот мрачный диагноз не потерял актуальности и в веке новом. Но и свое место в ситуации «восстания масс» он для себя определил довольно недвусмысленно: «Интеллигенция была моим народом». Фраза платоновская, наотмашь. И хотя само понятие интеллигенции все более утрачивало первоначальный смысл, оно все еще оставалось единственным напоминанием о совести в секуляризованном обществе. Мое же тогдашнее увлечение русской религиозной философией было ему, в общем, чуждо, но он его и не осуждал. Он вообще был терпимым человеком при всем своем догматизме. Правда, когда в очередной раз я стал развивать чаадаевско-леонтьевскую идею о плодотворности для культуры деспотизма, невольно напрягающего дух на сопротивление вызову (идея, как я думаю теперь, не спасительная, а вполне византийски-азиатская, а после тоталитарной практики смотрящаяся разве что абсурдистской экзотикой) и сослался даже на непроверенную цитату из Гоголя, что цензура — установление полезное, заставляющее ум идти непроторенными путями, он с комиссарской прямотой сказал: «А я хочу дожить до опыта свободы».
И это говорил бывший юрист и следователь военной прокуратуры («опыт мой особенный и скверный»), который знал что говорит: «Кто они, мои четыре пуда / мяса, чтоб судить чужое мясо?». И еще: «Я теперь мечтаю как о пире / духа, / чтобы меньше убивали. / Чтобы не за три, а за четыре / анекдота / со свету сживали». Да, такого опыта поэту лучше бы не иметь…
А остатки даже куцего либерализма выветривались на глазах и надвинулись угрюмые и душные семидесятые, жизнь нищала и ужесточалась, диссидентов ждали суды и нары, разогнали старую редакцию «Нового мира», Солженицын был выслан из страны, еврейские отказники добивались права на выезд, генеральный секретарь, обличая провокации американской военщины, учился выговаривать слово «систематический», а население, припав к телевизорам, упорно слышало «сиськи-масиськи» и давилось от хохота. Для многих это был смех сквозь слезы.
Мне позвонил наш общий друг Наум Коржавин или, как все его звали, Эмма, и спросил, не могу ли я пойти с ним в Союз к Ильину, генералу КГБ и по совместительству оргсекретарю московского отделения. Не знаю, чья была инициатива, Ильина или сам Эмма записался на прием. Незадолго перед этим его вызывали в прокуратуру, расспрашивали о знакомых, а еще о каких-то зарубежных изданиях, передаваемых друг другу, запугивали и угрожали, и у него не выдержали нервы — он подал документы на отъезд (в Карагандинской ссылке он уже был). Мы договорились встретиться в ЦДЛ. В Союз я был принят недавно, меньше года, мало кого там знал и, рассудив, позвонил Слуцкому — не хочет ли он присоединиться. Б.А. согласился сразу. Втроем мы поднялись на второй этаж, Эмма вошел в кабинет, а мы с Б.А. сели перед дверью и стали ждать, когда позовут. Через минуту-другую дверь отворилась, Ильин внимательно оглядел нас — из-под седых бровей сверлили умные чекистские глаза (между прочим, тоже бывшего сидельца) — и пригласил Б.А. в кабинет. Пригласил одного — меня он не знал, а Слуцкий был человек заслуженный, как-никак фронтовик и член партии. Минут через тридцать — сорок дверь отворилась, Эмма с Б.А. молча вышли, и, не говоря ни слова, втроем мы спустились на первый этаж и прошли в вестибюль. «Меня провожать не надо, — сказал Эмма, протянув руку, — Боря тебе все расскажет». И, выйдя из ЦДЛ, мы расстались: Эмма пошел по Герцена к Никитским, а мы повернули на Садовую и пошли к Маяковской. Некоторое время шли молча. «Жаль, — прервал молчание Б.А. — Кому он там нужен». Только и сказал. И так шли, я ни о чем не спрашивал, и вдруг Слуцкий увидел по правую руку арку в стене здания: «У вас найдется минута? Я вам хочу прочесть стихи». Мы вошли в замощенный двор, окруженный стенами с глухими по осени окнами. Какой-то дурной театр, успел я подумать. «Послушайте. Месса по Слуцкому. — И — без паузы: — Мало я ходил по костелам, / Много я ходил по костям. / Слишком долго я был веселым. / Упрощал, а не обострял…» Во дворе была действительно неплохая акустика, и, когда он кончил читать, воздух, казалось, еще резонировал. «Давно написали?» — спросил я. «Недавно», — ответил он хмуро. «А что Ильин?» — напомнил я, когда мы вышли на шумную улицу. «Не могу же я отменить для вас законы этой страны, говорит. Жалко Эмку…»
Я перечитал это насквозь аллюзийное стихотворение, тоже о беглеце, которое Лазарев не включил даже в составленный им для «Времени» однотомник 2006 года. И понятно почему: в своем предисловии Лазарь Ильич настойчиво выискивает мотивы сходства Слуцкого с Твардовским, пишет о близости их военных стихов и прозы, хотя совершенно очевидно обратное, и польский сюжет здесь — бегство из своей страны поэта Арнольда Слуцкого и месса по нему ксендза Яна Твардовского, тоже поэта, — только повод для прикровенной полемики именно с ним, Александром Трифоновичем, а не с Яном. Как и неизбежный отъезд Коржавина — напоминание о мучительном, если не глухом, диалоге отъезжающих и остающихся. Когда, наслышанный о гордыне Слуцкого, я однажды спросил его, не делал ли он попыток напечататься в «Новом мире», Б.А. только замотал головой, и тема была закрыта. Как и то, что внутри.
А стихи замечательные. Вот набросок портрета однофамильца: «Бывший польский подпольщик, / бывший / польской армии офицер, / удостоенный премии высшей, / образец, эталон, пример — // двум богам он долго молился, / двум заветам внимал равно. / Но не выдержал Слуцкий. Смылся…». А вот образ другого: «Говорят, хорошие вирши / пан Твардовский слагал в тиши. / Польской славе, беглой и бывшей, / мессу он сложил от души». Воображаемый диалог-дуэль и воображаемая развязка. И хотя в конце странный сюрреалистический образ Всевышнего примиряет обоих, осадок, как говорится в анекдоте, остается: «Бог — большой, как медвежья полость / Прикрывает размахом крыл / все, что надо, — доблесть и подлость, / а сейчас — Арнольда прикрыл».
![Семён Данилюк - Константинов крест [сборник]](/uploads/posts/books/50072/50072.jpg)