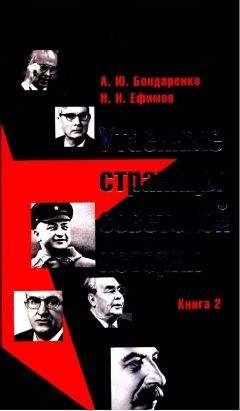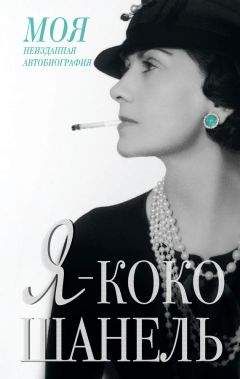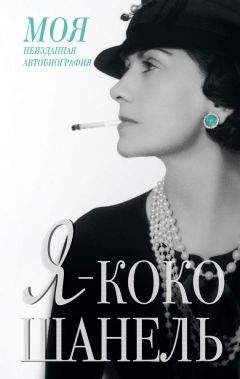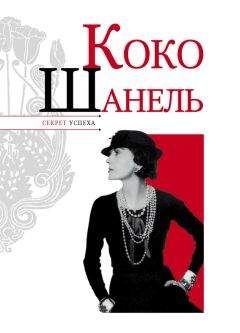Марсель Эдрих - Загадочная Коко Шанель
— Лед сломан между нами. Вы вернетесь. Будете задавать мне вопросы. Я подумаю. У меня есть заметки. Я перечту их.
Весь вечер она доверчиво говорила перед магнитофоном. Я настаивал, чтобы она рассказала свою жизнь. Она уклонялась:
— Никого не может заинтересовать чужая жизнь. Если бы я писала книгу о себе, то начала бы ее с завтрашнего дня, а не с того, что уже прожила, не с детства, не с юности. Прежде всего надо высказать свой взгляд на эпоху, в какую живешь. Это логичнее, новее и занятнее.
Когда речь заходила о ее жизни, она напоминала мне котенка, играющего с клубком шерсти. Потянет нитку — клубок покатится, котенок испуганно спасается бегством, следит издалека, возвращается успокоенный, протягивает одну лапку, снова тянет нитку.
— Я говорю максимами, я записала сотни их.
Один американский издатель уговаривал ее написать книгу советов для женщин. Я протестовал:
— У вас есть более важное дело.
— Да, да, я напишу эту книгу советов, а потом будет видно.
И добавила:
— Хочу, чтобы что-нибудь осталось после меня.
Американский издатель предложил ей большой аванс.
— Я не нуждаюсь в деньгах, — говорила она. — После меня и так останется много. Я даже не могу истратить всего, что зарабатываю.
Она ела крутое яйцо, ножом срезала белок, очищала его от пленочки после того, как скорлупа была уже снята. Мне подавали жареного цыпленка.
— Вы едите лапки? В детстве мне приходилось их есть, потому что все остальные куски предназначались взрослым. Теперь я их не ем.
Она прочла несколько максим, написанных, как она уточнила, в Нью-Йорке, у Мэгги ван Зюйлен. Она провела целое воскресенье, выбирая их «из кучи других». Я уделил недостаточно внимания этому чтению, потому что придавал меньше значения максимам Коко Шанель, чем ее воспоминаниям. Я был неправ, так как не сразу сообразил, что, читая их, она давала мне понять, в каком тоне следует писать о ней. Это была та музыка, та великая опера, которую она мечтала оставить после себя. Я понял это слишком поздно, когда магнитофонная запись со всей отчетливостью воскресила эту почти стершуюся из памяти сцену, понял всю важность того, что происходило в тот вечер, понял, что Коко открывала мне свою сущность. Вот несколько максим, прочитанных тогда Мадемуазель Шанель:
Счастье заключается в осуществлении своего замысла.
Можно продолжить свой замысел и после жизни, чтобы реализовать его в смерти.
За исключением материальных дел, мы нуждаемся не в советах, а в одобрении.
Для тех, кто ничего не понимает в искусстве, красота называется поэзией.
Перечитывая эти максимы, отмечая их птичкой в старом блокноте, чтобы заполнить воскресную тоску, она, должно быть, умилялась сама себе. Как хорошо то, что она написала, как мало стараются ее понять, кто знает о том огне, какой пылает в ней?! Когда же она читала свои максимы вслух Эрвэ Миллю, его брату Жерару и мне, она уже не была так уверена, что написала что-то, что останется в веках. (Хотя мы не скупились на похвалы.) Читала все быстрее и быстрее, не глядя на нас:
Следует опасаться людей, одаренных умом, но почти лишенных здравого смысла. Мы окружены ими.
Не нас ли она имела в виду? А вот что она записала о себе:
У меня, безусловно, есть недостатки и слабости, но я раздражаю и вызываю гнев моих друзей лучшим, что есть во мне: пристрастием к справедливости и правде.
Еще, относящееся к ней самой:
Всякое превосходство, как правило, приводит к своего рода изоляции. Оно заставляет выбирать друзей и знакомых.
Почему? Можно ли было спросить ее об этом, ее, которая говорила: «Я предпочитаю завтракать с клошаром, если он меня забавляет, чем с богачами, наводящими скуку».
Впрочем, мне кажется, я вижу, как она подняла голову, прочтя это, и слышу (благодаря магнитофону) ее голос:
— Я должна была изнывать от скуки в Америке, когда писала это.
Она прочла еще:
Нет ничего более лестного, чем сладострастие, которое ты вызываешь, потому что рассудок в нем не участвует. Сладострастие не зависит ни от твоих достоинств, ни от твоих заслуг.
— Неплохо, — заметила она, — время от времени я пишу вещи, которым сама удивляюсь.
Я находил, что она была более убедительна, когда, как бы стреляя в цель, выпаливала свои суждения, не думая и не заботясь о форме: «Можно привыкнуть к уродству, но никогда нельзя смириться с неряшливостью. Женщина должна быть надушенной и чистой, без этого она неряшлива. Я очень люблю духи. Люблю женщин, хорошо ухоженных, надушенных. Отвратительно, когда от них пахнет неряшливостью».
И все же нельзя не восхищаться тем усилием, с каким из чувства собственного достоинства она старалась облечь свои мысли в литературную форму:
Святой в обществе так же мало полезен, как в пустыне. Но если в пустыне святые бесполезны, то в обществе они часто опасны.
Страх божьего гнева удерживает от греха тех, кто не очень хочет или не в состоянии его совершить.
Сокровища божественного милосердия ободряют даже преступников, так как они имеют основания надеяться, что разделят их с другими.
Прочтя три последние максимы, она спросила нас:
— О чем я думала, когда писала это?
Не дав нам времени предложить свои объяснения, она прочла, засмеявшись, и как бы подчеркивая этим смехом свою мысль:
Мои друзья — у меня их нет.
И закончила:
Так как все находится в голове, не надо ее терять.
— Вот, — сказала она, — что я написала на последней странице моего блокнота. Наверняка со мной был кто-то, кто мне докучал. Я притворялась, что делаю заметки.
Наши похвалы и комплименты не успокаивали ее:
— Я провела воскресенье, разбираясь в этой писанине, безумно старалась, делая эту никому не нужную работенку.
Этот упрек был адресован мне. «Никому» — это мне, я понял это с опозданием в десять лет, ведь это я заставлял ее рассказывать о себе. А ведь уже достаточно хорошо знал ее, чтобы оценить трудность таких стараний. Она уже пробовала сделать это, когда начинала с Луиз де Вильморен[26], с Гастоном Бонэром, Жоржем Кесселем, Мишелем Деоном[27] и многими другими. Она не щадила никого из них, рассказывая мне об этом. Нетрудно было представить себе, что будет она говорить обо мне, когда потерпит неудачу наша попытка литературного сотрудничества. Впрочем, я должен был понять, что надо обладать более чем неиссякаемым терпением, чтобы вместе с Коко рассказать о Шанель.
Что это такое — правда чьей-то жизни? Метрика? Даты? Свидетельства о крещении и прививках?