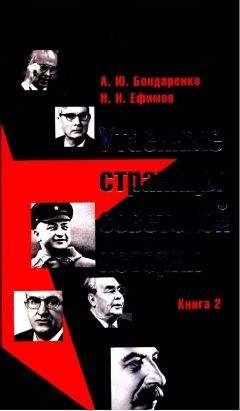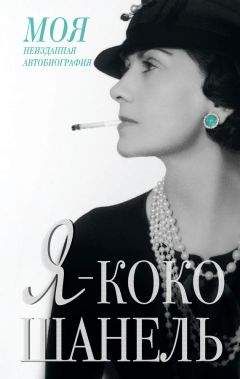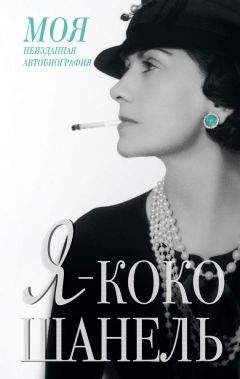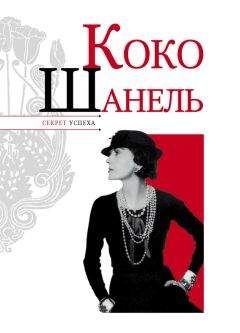Марсель Эдрих - Загадочная Коко Шанель
— У меня не было времени жить. Никто этого не понял. Даже не знаю, была ли я очень счастлива. Много плакала, больше, чем обычно плачут люди. Была очень несчастна, даже когда приходила большая любовь.
И далее следовала эта восхитительная фраза, которую едва хватало времени уловить в потоке слов:
— Великие страсти — их тоже надо уметь переносить.
Она привыкла ко мне. Говорила со мной очень непринужденно.
— Я помню только, как была несчастна в жизни, которая внешне кажется такой блестящей, — призналась она при нашей третьей или четвертой встрече.
— Я всегда терзалась, — говорила она, — прежде всего потому, что никогда не хотела покинуть Дом Шанель, — единственное, чем я владею целиком, что принадлежит мне одной, единственное место, где я чувствовала себя действительно счастливой. Здесь мне никогда не докучали. Все, что я делала, имело успех. Мне оставалось лишь требовать деньги, когда я этого хотела. Я видела только улыбки. Никто не смел быть неприятным со мной.
Забывался ее воз раст. Нельзя было не поддаться власти ее глаз, глаз требовательной нищей. Она весила ровно столько же, сколько в двадцать лет. Почему она так упорно вносила путаницу во все, что касалось ее возраста?
При первой встрече она рассказывала о молодом американце, недавно посетившем ее. Описывала его: узкие брюки, длинные ноги, однобортный пиджак, застегнутый на три пуговицы. Когда о нем доложили, его имя напомнило Коко о забытых друзьях, «людях очень скучных, но тем не менее в Штатах я была не прочь видеться с ними». Так как она была одна и ее немного мучила совесть.
— Просите, — сказала она портье… Она рассказывала свои истории, как бы сохраняя их хронометраж. Пока молодой чело век поднимался по лестнице, она вынесла свой приговор Америке: «Пропащая страна, там ценят только комфорт, страна, где богатые покупают картины, чтобы вложить деньги. Они покупают их для рекламы: немедленно становится известно, что такой-то купил Ренуара». Напротив, Германия познавала настоящую роскошь:
— Я бывала в немецких замках. За каждым стулом стоит лакей. Серебро замечательное, хоть и тяжеловатое, но это настоящая роскошь. Во Франции — половина наполовину. Все так американизируется во Франции! Какое заблуждение — жертвовать роскошью…
Отступление закончено. Молодой американец в узких брюках входит в салон. Коко встречает его словами:
— Вы сын мадам…
— Нет (она имитирует его манеру говорить), мы только однофамильцы.
— Так чем же я могу быть вам полезна?
— Видите ли, Мадемуазель, мы с моим другом (я забыла его имя) революционизируем искусство интервьюирования.
— В самом деле?
— Да, Мадемуазель. Мы задаем всего три вопроса. И если они правильно выбраны, из ответов на них можно узнать все, что нам нужно.
— Неплохо.
— Вы согласитесь ответить, Мадемуазель?
— Садитесь, месье.
— Так вы соглашаетесь?
— Еще не знаю. У меня очень мало времени. Поторопитесь.
— Сколько вам лет, Мадемуазель?
— Это вас не касается.
— Это не ответ, Мадемуазель.
— Вы правы, месье. Раз обещала, должна ответить. Итак, мой возраст зависит от того, какой сегодня день, и от людей, с которыми я говорю.
— Это меня вполне удовлетворяет, Мадемуазель.
— Подождите, месье, я еще не закончила.
И, обратившись ко мне и Эрвэ, она объясняет:
— Я начала сердиться, вы понимаете?
После чего, вернувшись к молодому американцу:
— Когда мне скучно, я чувствую себя очень старой, а так как мне страшно скучно с вами, то через пять минут, если вы не уберетесь прочь, мне будет тысяча лет.
Молодой американец уничтожен. Два других вопроса, чтобы «все узнать о Шанель», застряли у него в глотке. Прощайте, молодой человек. О, знаете, в Америке это совершенно в порядке вещей, — журналисты там могут спрашивать о чем угодно…
В ту пору я очень увлекался магнитофоном, который мне подарил американский художник Россуэл Келлер; я взял интервью у Брижитт Бардо, получилось удачно. Коко колебалась:
— Я рассказываю невесть что, — говорила она.
Прошли месяцы. Я чаще виделся с ней, привыкал к ее макияжу, голосу, слушал ее внимательнее. Однажды вечером я застал ее спящей на диване. Шляпа надвинута на глаза, костюм из твида, юбка натянута на колени, руки сложены на животе, большой палец просунут в одно из ожерелий. Это было зимой, в феврале, после показа новой коллекции. Я уже поздравил ее и вернулся, чтобы поужинать с ней. Из-за двери под сурдинку доносилась мелодия Вагнера.
Я вошел, решив, что она не слышала, как я постучал. Она спала. Значит, можно спать на парадном диване. Кругом стаканы, окурки в пепельнице, терпкий запах шампанского. Не убирали, чтобы не разбудить ее.
Прежде чем я успел уйти, она открыла глаза:
— Останьтесь.
Приподнялась, поджав ноги и натянув, по своему обыкновению, юбку на колени.
— Вот, — пробормотала она, — что такое слава, слава — это одиночество.
Каждый вечер, когда наступало время ложиться спать, она упиралась, словно над раскрытой бездной, может быть, потому, что погружалась в сон, как погружаются в смерть. Всем, кто ужинал с ней, хорошо был известен сценарий:
— Уже поздно, Мадемуазель. Не время ли вам…
Она не слышала. Кончалось тем, что все вставали.
Она не замечала этого. Продолжала говорить, оправляя юбку на круглых коленях.
— Надо… Не думаете ли вы, Мадемуазель…
Она ускоряла свой рассказ, или сетования, или обвинения.
— Что же, — вздыхала она наконец, — надо спать. Завтра предстоит работа.
Она поднималась. Поправляла шарф, шляпу, снова садилась. Брала свою сумку, открывала ее, клала в нее очки, три пары — для чтения, для дали, для кино, — таблетки, портсигар, новенькие, сложенные вчетверо десятифранковые банкноты, приготовленные для чаевых. Снова вынимала, рассматривала, проверяла все это. Читала несколько писем, полученных за день, вкладывала их обратно в конверты. Шаг за шагом ее подводили к двери. В дурную погоду в передней на кресле лежал ее плащ. Спускались по лестнице со множеством остановок, она все произносила монологи, и так весь короткий путь от рю Камбон до отеля «Риц», до последней остановки в тамбуре отеля, где, казалось, она собиралась провести ночь. И ни малейшего признака усталости, тогда как вы уже еле держались на ногах. Не было сил слушать, понимать, запомнить то, что она рассказывала. Вы покидали ее в полном изнеможении.
В моих записях, датированных 9 февраля 1960-го, я нахожу признание, сделанное ею в тамбуре «Рица»:
— Лед сломан между нами. Вы вернетесь. Будете задавать мне вопросы. Я подумаю. У меня есть заметки. Я перечту их.