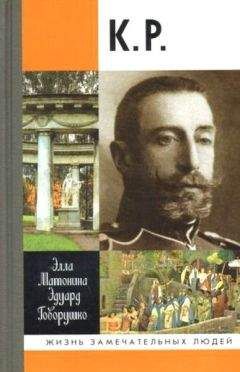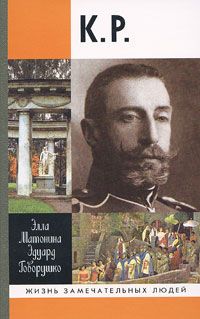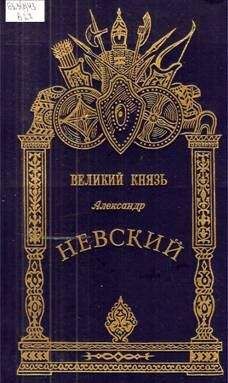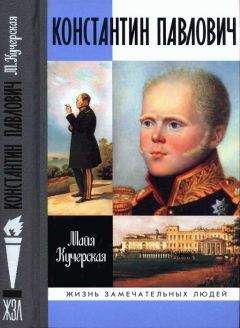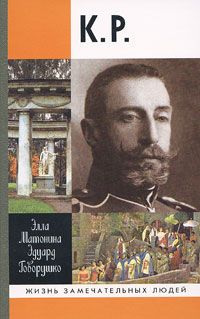Александр ХАРЬКОВСКИЙ - ЧЕЛОВЕК, УВИДЕВШИЙ МИР
Конгресс закружил русского писателя. Людям, пережившим трудные годы войны, голода, разрушений, хотелось отвлечься от тяжелых воспоминаний: устраивались вечера, концерты, веселые диспуты. Не пропускал их и Ерошенко.
Но все чаще, спрашивая о своих довоенных друзьях, он слышал в ответ: "Убит, умер от голода, пропал без вести". И ему становилось тоскливо: чего стоили все разглагольствования о "вечном мире", если миллионы простых людей разных стран загнали в окопы и заставили убивать друг друга! Конечно, он радовался, что разрушения и убийства позади, но это была какая-то грустная радость. Свое настроение он выразил в рассказе "День всеобщего мира", который прочитал делегатам после одного из заседаний конгресса.
"Мать с сыном стояли вверху, на балконе, на армию глядя, что маршем победным внизу проходила; и мать ликовала, что вот наступил день всеобщего мира. А сын ее плакал…
– Не плачь, дорогой мой; дитя, не печалься: война завершилась, прервались страданья людские. Взгляни же, как реют знамена! Не крылья ли это навеки над всею землей наступившего мира? Взгляни же на лица героев! Они не сулят ли покой долгожданный родине нашей усталой, всему человечеству не обещают ли отдых бессрочный от бесконечных страданий? В звуках ликующих маршей победных слышен триумф дорогих идеалов, в шелесте этих знамен – исполненье мечтаний поэтов, надежд благородных всех жителей мира. О братстве всеобщем, о равенстве всех, о свободе народов…
– Мама, не надо, прошу тебя, мама, умолкни… Меж" шелестящих победно знамен тех я вижу… Мама, вижу я руки, лишь руки брата родного… Их уже видел я в дрёме бессонной – они меня нежно так брали, ласково гладили щеки, волосы тихо трепали, любовно так обнимали… Мама, ведь не было видно его самого – только руки, что оторвало снарядом… Словно я в пропасть срывался… Проклятые сны, любимые руки!..
Гордые лица героев… Меж ними, мама, я вижу… Голову отца, голову только… Я уже видел ее в бессонные ночи, в дрёме ужасной… Мне улыбался отец и шутил так со мною; поцеловать мне его захотелось как прежде, а он…
О мама! Голову с шеи снял он руками, ее протянул мне для поцелуя, голову мне протянул он, что саблей срубили… О ужасные сны! О голова дорогая?..
Все так же шли строем победным герои.
– Ты бредишь, сыночек, не плачь же, дитя, не горюй! Гремит героический марш, звучат победные трубы!
– Но, мама, послушай, сквозь радостный марш не слышны ли скорбные звуки, в песнях победных не слышится ль плач безутешный? Кто-то ведь плачет, кто-то тоскует. Кто бы? Послушай!
– Ты бредишь, сыночек, ну кто же заплачет в дни ликованья такого? Кто ж затоскует в дни всеобщего мира?
– Но мама, слушай… Ужели не слышишь?
– О да, я услышала – это любимец погибшего брата, наша собака. После смерти его скулит она и не ест. Заслышав победные марши, вспомнила, видно, она хозяина облик геройский… Давно я хотела, а нынче решила – пусть ее тут же застрелят: не может она без него, зачем же страдать понапрасну?..
– Послушай, о мама, в звуках ликующей песни слышу я скорбные крики: кто-то где-то страдает, кто-то кричит там от боли, несмотря ни на что – ни на величье победы, ни на праздник всеобщего мира…
– Ты бредишь, сыночек, это ведь лошадь отца, верный конь; геройские песни услышав, вспомнил хозяина он, погибшего нашего вспомнил… Давно я хотела, а нынче решила – пусть его тоже убьют: хозяина он не забыл, а негоже унылое ржанье в день великой победы, в праздник всеобщего мира…
– О, слушай же снова! Сквозь шелест победных знамен все мне слышны слезы и вздохи, послушай…
– Грезы больные, сыночек, не слышно мне плача; слышу я песню кукушки…
– Но, мама, о чем же кукушка тоскует в этот день великой победы?.. Смотри-ка, вон ивы, склонясь над рекою, тоже вздыхают; мама, о чем же ивы вздыхают в день всеобщего мира? Мама, пусть же охотник застрелит всех кукушек нашего леса: ведь не должно им плакать в дни великой победы; мама, скажи лесорубу, чтобы все ивы срубил он: им негоже склоняться и плакать в дни всеобщего мира; и прикажи же, о мама, чтоб и меня застрелили. Как не может собака жить без хозяина доле, как лошадь не хочет жить без хозяина – так и я не могу жить без брата, жить не хочу без отца я! Дай умереть мне с моими родными, дай же уснуть мне с любимыми вместе!.. А ты… Над океанами крови и слез, над морями страданий людских ты башню воздвигни из костей всех погибших; там водрузи ты знамена отчизны, играй победные марши, пой геройские песни и празднуй победу, ликуй в день всеобщего мира!..
Он плакал. Все уже стихло, герои прошли мимо, лишь издали еще слышались барабаны и звуки победной трубы. Опершись на перила балкона, он плакал, в руки спрятав лицо; молча, недвижно смотрела она на него, и, казалось, она начала понимать, что за победу отчизны, за мир тот всеобщий миром ее же души заплатили.
Все было спокойно, замерла вдали дробь победных барабанов, растаяли в чистом воздухе звуки фанфар, все погрузилось в покой, только выла собака, лошадь сетовала на судьбу, а где-то стонала кукушка и, склонясь над рекой, грустили о чем-то ивы; опершись на перила балкона, он плакал, в руки спрятав лицо.
Безмолвно, недвижно смотрела она на него и, казалось, начала понимать, что такое мировая война, что такое всеобщий мир…"
Ерошенко закончил чтение. Взволнованный зал молчал. Но это молчание было для автора дороже любых оваций.
– Да, грустный рассказ, – сказал Нарита.
– Что-то невесело мне, Нарита-кун, – отозвался Ерошенко. – Живя на Востоке, я не мог представить себе по-настоящему, что такое война. Но вот я проехал через Россию, увидел, как много несчастий принесла война моему народу…
– Отсюда вы поедете домой? – спросил японец.
– Да, но ненадолго. Нужно возвращаться в Пекинский университет: я дал слово – там меня ждут студенты.
В конце августа 1922 года Ерошенко приехал в Москву и сразу же разыскал японского студента Вада, адрес которого ему дал Нарита. В институте, где учился японец, были каникулы. Он скучал, но из Москвы уехать не решался, так как не знал русского языка.
Едва познакомившись, Ерошенко предложил Вада поехать вместе с ним в Обуховку.
– Я буду вашими ушами, а вы – моими глазами. Согласны?
От Москвы до Обуховки 600 километров – сутки езды по тем временам. Но Ерошенко не спешил домой, он хотел насладиться встречей с родиной. Они прожили с Вада неделю на берегу Дона, в домике рыбака. Ерошенко много плавал и, уходя под воду, выныривал так далеко, что сердце выросшего в горах и боявшегося воды японца замирало от испуга. Несколько дней они провели в Ельце, а когда доехали до ближайшей к Обуховке станции Голофеевка, Ерошенко ни за что не согласился сесть на подводу. Он шел и шел вперед и пел, не чуя под собой ног. Впереди была его Обуховка.