Владимир Каменев - Фронтовые записки
Мне от этого не легче. Вверх — вниз, вниз — вверх! С каждым взлётом или падением я кричу от боли.
— Ну, кричит — значит, выживет, — говорит ездовый. Временами он упрашивает меня потерпеть, помолчать хоть немного. “Нельзя кричать, немцы услыхать могут”, — увещевает он меня.
— Ты что, все время ездовым-то? — спрашиваю его.
— Нет, стрелок я, рядовой из батальона, да вот ранило — послали отдыхать, сделали ездовым.
— А куда ранило-то?
— В шею, — отвечает он.
Шея у него действительно забинтована.
Подъезжаем к батарее. Она ведёт огонь, и дорогу преграждает нам часовой с винтовкой. Узнав меня, он молча качает головой, а я приказываю ездовому остановиться, позвать помкомбата Трофименко.
Звать приходится недолго. Лейтенант Трофименко, комиссар батареи — молоденький рядовой краснофлотец, назначенный вместо Зуякова, но ещё не переодетый в командирскую форму, — и ребята моего взвода уже окружили меня.
Быков заботливо укладывает в моих ногах вещевой мешок и чемоданчик, заблаговременно извлеченные ими из кузова трактора. Трофименко посылает кого-то за одеялами. Приносят два. В них укутывают мои ноги, чтобы не отморозил.
Меня снова прорвало. Слёзы льются прямо-таки рекой.
— Неужели так больно? — спрашивает комиссар.
— Не то, совсем не то, — говорю я. — Не могу я уходить от вас, хочу до конца быть с вами...
— Не расстраивайся, отдохнёшь — вернёшься. Мы будем ждать твоего возвращения. Не расстраивайся. Это почётно, почётно, — повторяет Трофименко. — Что ещё сделать тебе? — спрашивает он.
— Нет ли поесть чего? Хлебца бы кусочек! — говорю я. Много раз потом горько раскаивался я — зачем произнёс эту фразу! Ведь и есть в тот момент не так сильно уже хотелось, чувство голода притупилось. Скорее от нервного расстройства и потрясения сказал это, также и слёзы — не от боли лились они так обильно.
Все переглянулись.
— Даже одного сухарика не найти сейчас на батарее, ты прости нас, — печально и виновато сказал комиссар, — вот газета свежая есть, могу дать.
— Ну, ничего, спасибо и на том, сам знаю ведь, — говорил я, прощаясь со всеми. — А кто же управляет огнём батареи? Идите, вы там нужнее.
— Огонь ведёт лейтенант Осипов. Поезжай, да поправляйся скорее, — отвечал Трофименко.
Расстались тепло и грустно. Дальше мы ехали лесной дорогой одни, так как остальной обоз с ранеными ушёл вперёд. Опять эта ужасная просека в корнях и ухабах!
Я то стонал, то забывался. Не заметил, как проскочили перекрёсток с трупами немецких офицеров. Всё так ли лежат они там, занесённые снегом?
Подъезжаем к шалашам и палаткам. Запах костров, хвои — люди, лошади, сани и волокуши. Это — штаб бригады и обозы.
Нас останавливает девушка — то ли медсестра, то ли санитарка... Говорит, что сейчас поесть принесё.
Вскоре возвращается с котелком и белой фаянсовой кружкой.
— Выпей, — говорит она мне, помогая немного приподняться и поднося к губам кружку. В ней граммов сто пятьдесят водки.
Пить хочется. Не думал, что водка. Выпил залпом.
— Давай поешь, — и она подставляет мне котелок с гречневой кашей. Каши там с четверть котелка было.
— Товарищ командир, оставьте мне немного, — просит ездовый.
— Не тебе принесла, раненому, — говорит девушка, но тут же отворачивается и отходит в сторону.
Ездовый быстро доедает кашу.
В пути, где-то в лесу под Хмелями, лежит в снегу, рядом с дорогой, труп красноармейца.
Мой ездовый качает головой, замечает:
— Не довезли его, значит, умер дорогой. Он впереди нас ехал. Облегчили лошадь.
Дороге, кажется, конца не будет. Но вот последний поворот, и вскоре мы останавливаемся при выезде из леса на большую открытую поляну. Вдали на пригорке — Холмы.
Давно ли пересекали мы эту поляну со своими тягачами и пушками? А кажется — будто год прошёл.
Ездовый поглядывает на небо. Оно серо-голубое. Ласково светит апрельское солнце. Только тут замечаю, что весна, настоящая весна уже наступила. В лесу её не было видно.
В лесу — снега, зима. А здесь — дорога покрыта уже весенним оттаявшим конским навозом, оттепель, санные колеи сырые, местами покрыты ледком и талой водой. Глубоки следы конских копыт на дороге.
Но не это видит ездовый, не о весне думает.
— Самолеты немецкие тут то и дело летают, обстреливают нашего брата. Успеем проскочить-то? — говорит ездовый.
Не видно в небе самолетов.
— Давай поезжай, — говорю ему.
Выехали мы на середину поляны — гул слышен, из-за леса вылетел немецкий истребитель.
— Заметил нас, круг делает, пропали теперь, — заметался ездовый. — Товарищ командир, я в снег побегу, укроюсь, — говорит он.
— Беги, беги, — приказываю я, — зачем пропадать обоим.
Лошадь стоит смирно. Лежу на спине, ясно вижу несущийся на меня самолёт, турель пулемёта и летчика, вцепившегося в пулемёт. Он тоже видит мою забинтованную торчащую руку, белые бинты на шинели, видит беспомощность раненого!
Длинная пулемётная очередь пришлась рядом с санями, строчка от пуль обрызгала меня грязью. Лошадь испугалась и рванула. Я приподнялся. Самолёт выходил из пике, летчик, обернувшись, дал очередь назад, но пули легли далеко впереди нас.
— Промахнулся, — крикнул я ездовому, который уже выбирался из глубокого снега. — Поехали!..
Было два часа дня, когда мы остановились у какой-то избы в Холмах. Путешествие в санях кончилось.
Молодые санитарки, или дружинницы, как их здесь называли, вытащили меня из саней и внесли в избу. В горнице было чисто, белые простыни делили её на две части. Меня положили на пол, раздели до белья, пока я отвечал на вопросы регистратора, сидящего за перегородкой: фамилия, звание, должность...
Знакомый мне по Хамовническим казармам пожилой хирург в очках, ещё больше похудевший и утомлённый, тоже расспрашивал меня, как и при каких обстоятельствах ранило.
Начал было я отвечать, да опять нахлынули с воспоминаниями слёзы, и он отступился от меня, только утвердительно повторяя:
— Да, да, всё это так ужасно!
Разбинтовали мне руку. Он осмотрел её, бросил через плечо за перегородку — “Медианус”, приказал забинтовать снова.
Для обработки раны на ноге меня подняли и стали держать сильные руки дружинниц.
Обработка продолжалась долго, а я, сам себя не узнавая, всё время беззвучно плакал горючими слезами, положив голову на плечо дружинницы, утиравшей мне глаза своим носовым платком и вместе с другими утешавшей меня.
Пытался я объяснить, что совсем не хочу плакать, что получается это непроизвольно, что боли я почти не чувствую, не думаю о ней. Девушки, по-видимому, это понимали, обращались со мной умело, заботливо и нежно, не раз пить давали.

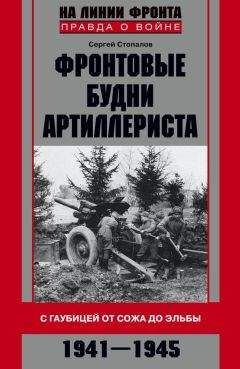

![Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]](/uploads/posts/books/275812/275812.jpg)
