Владимир Каменев - Фронтовые записки
— ...Люба, Люба, я Утка, я Утка...
— ...Почему молчат пулемёты? Открывай огонь, приказываю вам, так вашу...
— ...Товарищ командир, обстановка такова...
Внезапно все голоса умолкли. Обрыв связи. Жду. Всматриваюсь, стараясь по вспышкам в амбразурах на ледяном валу немцев как-то ориентироваться.
Связь восстановлена. Снова “Люба, Люба...”. Кто-то “Ленинград” вызывает...
— Калуга, Калуга, я Камень, я Камень, — говорю я в трубку, воспользовавшись наступившим молчанием.
— Я Калуга, я Калуга, — доносится ответ. Узнаю голос лейтенанта Колбасова — нашего начштаба.
— Товарищ лейтенант, — кричу я обрадованно в трубку. — Пусть батарея ведёт огонь по нашему ориентиру номер один. Надо заставить замолчать их пулемёты.
Опять обрыв связи. Снова ожидание. Нервы напряжены, как струны. Огненные конуса разрывов окружают, становятся ближе. Слух режут стоны и крики.
В трубке появились голоса. Нажимаю тангенту. На другом конце провода — Колбасов. Он кричит:
— Я не знаю ваших ориентиров. Управляй огнём сам. Свяжись с капитаном, он разрешит... Обрыв связи...
На командном пункте батальона ругань и мат. Поворачиваю голову: поджав под себя ноги, сидит командир пулемётного взвода Арсентьев — бывший Витязь. Перед ним взбешённый Ткаченко.
—Почему молчат пулеметы, почему не открываешь огонь, не выполняешь приказ? — рычит он.
— Не открою огонь, не время ещё, не дам пулемётчиков на бессмысленное уничтожение, — упрямо и зло повторяет Арсентьев.
Меня вызывает по телефону командир артдивизии Фокин.
— Слушай, — говорит он мне, — здесь полковник, он разрешает тебе непосредственно связаться с батареей. Открывай огонь, командуй. Далеко ли от тебя до немецких пулемётов?
— Сто метров, — кричу я в трубку, стискивая зубы от дрожи и тут же соображая, что наврал, должно быть. Может быть, все двести будут?
— С ума сошёл, — говорит капитан, — но подожди, я поговорю с полковником...
Связь оборвана.
Верчу головой то вправо, то влево, стараясь понять, есть ли закономерность шахматной доски в обстреле нас миномётами. Взрывы возникают на земле, то чёрные, то с оранжевым пламенем.
Мысли бегут быстро. Неужели мы лежим на островке, куда так и не залетит мина? Вряд ли...
Говорят, “свою” всегда заранее почувствуешь, услышишь, гудит, приближаясь, по-особенному...
...Сегодня ночь под пятницу. Правильно ведь заметил вчера минёр, что послезавтра пасха...
...Выйдем ли живые отсюда?
Лежим, плотно зарывшись в снег, прижавшись от жужжащих то справа, то слева пуль. Касьянов в снегу по правую руку от меня, на два-три шага сзади.
Лежу на бинокле. Прикрыл им место, где бьётся сердце. Может быть, предохранит? Взрывы мин всё ближе и ближе. Приближаются, как ливневая полоса в поле. На командном пункте, кажется, забеспокоились.
...Вызывает капитан Фокин.
— Полковник разрешает тебе управлять огнём, соединяю с батареей, — говорит он, — уточни мне обстановку.
Бегло объясняю. Говорю, что отсюда видно плохо, мы привязаны к аппарату. Но нас двое. Разведчик Касьянов может вперёд проползти немного...
Касьянов слышит и ругает меня.
Отвечает батарея. Узнаю голос Умнова.
— ...Ориентир номер один. Угломер... прицел... Первому две гранаты беглый огонь...
Снова ухнули немецие миномёты.
— Это наша, — говорю Касьянову.
— Наша, — повторяет он.
Гул летящей мины нарастает, приближается.
“Прямое попадание... конец”, — проносится в голове. Инстинктивно прикрываю лицо рукой, отворачиваюсь.
Столб пламени взметнулся примерно в пяти метрах сзади, между нами и командным пунктом. Одновременно сильный удар, как бы дубиной или оглоблей, пришёлся по правому бедру.
— ...А-а-а, — как-то дико, по-звериному закричал я, поднимаясь и бросаясь вперёд, сознавая, что остальные мины пучка, уже гудящие в воздухе, будут сию же минуту рваться здесь, на этом месте.
Утопая в снегу, бегу вперёд... что-то обжигает руку — как будто бы дотронулся ею до раскалённой сковородки.
— ...А-а-а, — раздаются крики на командном пункте.
На мгновение вижу побелевшее и искажённое гримасой лицо лейтенанта Иванова, схватившегося за живот и со стоном раскачивающегося, сидя на коленках.
Вижу повалившегося в снег, охающего лейтенанта Арсентьева.
Касьянов сидит, странно раскрыв рот и выпучив глаза, подбирает вывалившиеся из распоротого живота кишки со снегом.
Одна мина... Летит вторая, третья...
Пробежав вперёд в каком-то исступлении шагов десять-пятнадцать, проваливаюсь в глубокий снег. Разрывы мин, накрывшие командный пункт и место, где я лежал, переместились вправо. Громко охая от боли в ноге, я стал выбираться назад на дорожку.
Куда назад пошёл! Стреляй в него! — донёсся до меня скрежет чьих-то зубов и щёлканье затвора винтовки.
— Да что ты, это раненый, — заметил кто-то.
Я заковылял, волоча ногу, по снежной тропке.
— Не помочь ли вам выбраться, товарищ лейтенант? — очутился рядом со мной какой-то боец.
— Не надо, дойду, — сказал я, соображая, что сейчас всякому хочется, помогая мне, самому выбраться отсюда.
Недолго удалось мне двигаться самостоятельно. Ещё несколько шагов — и я со стоном опустился в снег, почувствовав в ноге нестерпимую боль. Одновременно с удивлением заметил, что непроизвольно ловлю снег губами — сильно захотелось пить.
“Напрасно отказался от помощи — не выбраться мне самому отсюда”, — подумал я, и почему-то какое-то непонятное безразличие, но нет — не безучастие ко всему происходящему — охватило вдруг меня.
Если несколько секунд тому назад я передвигался в ужасе от перспективы остаться здесь, ползающим в этой зоне огня и смерти, как “те” под Хохелями, запечатлевшиеся на сетке артиллерийского бинокля, то теперь вдруг нахлынуло на меня какое-то успокоение, желание лежать в снегу, спать и пить, пить и пить.
Вероятно, прошло очень мало времени, какая-нибудь минута, как надо мною склонилось двое незнакомых бойцов.
— Один-то дотащишь? — обратился боец к другому.
— Куда ранило-то? — спросил меня маленького роста боец в краснофлотской шинели.
И так же, как несколько часов тому назад плыли на спине по снежной тропке раненые минёры, поплыл и я, закинув за голову руки, вцепившиеся в широкий морской ремень, снятый с себя краснофлотцем.
— Где левая варежка-то? — спросил краснофлотец, заметив, что нет её у меня.
— Потерял, видно, — ответил я, с удивлением обнаруживая, что пальцы на левой руке сведены, скрючились и не двигаются. Отморозил руку-то я, должно быть! — Дай мне варежку, а то без руки останусь, — попросил я краснофлотца.

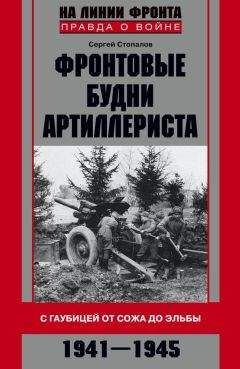

![Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]](/uploads/posts/books/275812/275812.jpg)
