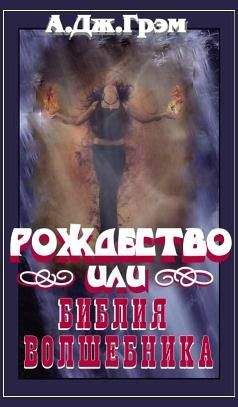Борис Носик - Тот век серебряный, те женщины стальные…
Саму Ахматову еще тоже предстояло открыть равнодушному закордонному миру. Она убеждена была, что в «глухой европейской дыре» ее интересы бешено отстаивает тот, кого она называла загадочно «Он», а еще «сэр» или «лорд». Окружение Ахматовой знало, что речь идет об оксфордском профессоре Берлине, который в знак признания его дипломатических заслуг в годы войны, его регулярных выступлений на Би-би-си, а также здравых философских и геополитических суждений, изложенных в его знаменитых книгах, был в 1957 году возведен королевой Великобритании в рыцарское звание. Отныне его можно было (или даже следовало) называть сэром…
При дворе Ахматовой слово «сэр» произносили с особым чувством. Последний возлюбленный поэтессы (его иногда называют «вдова Ахматовой») назвал этим заморским словом свою книгу об И. Берлине. Скорей всего, этот «сэр», возглавивший к тому времени один из оксфордских колледжей, и подал идею присуждения А. А. Ахматовой звания почетного доктора Оксфордского университета. Конечно, профессор Берлин не оправдал всех надежд влюбленной Клеопатры. Как-никак она посвятила ему два сборника любовных стихов и перепосвятила стихи, ранее посвященные ее коварному жениху-изменщику В. Гаршину. На все посвящения Берлин отреагировал довольно вяло. Хуже того, он вдруг женился там в Англии на какой-то другой женщине (точнее, на внучке былого петербургского богача и мецената барона Горация Гинзбурга). Возможно, продолжение мифической любовной связи с поэтессой казалась ему теперь обременительным. Смущало его, вероятно, и то, что Ахматова приписывает их встрече столь важную роль в возникновении холодной войны. Сэр Исайя даже обмолвился, весьма осторожно, что видит в этом убеждении поэтессы некое преувеличение. Так или иначе, приехав с молодой супругой в Москву, профессор даже не повидался с подгадавшей к этому времени с московским визитом Ахматовой. По подсчетам Ахматовой, он виделся с ней после той роковой беседы (и виделся вполне бегло) еще четыре раза, поэтому сборник стихов, ему посвященных, она назвала «Cinq», что по-французски означает «Пять». Оба они с Берлиным, хотя и в разной степени, умели по-французски, во всяком случае считать до пяти могли, а «сенк» звучало намного заграничнее, чем просто «пять». Так или иначе, об оксфордском звании и приглашении Ахматовой в Оксфорд, скорей всего, похлопотал Берлин, подсказав как повод для присвоения поэтессе почетного докторского звания ее статьи о Пушкине.
В Англии Ахматова смогла повидаться с Берлином. Однако другой «отступник» русского происхождения и герой ахматовской лирики, Борис Анреп, почел за лучшее уехать из страны на время ее визита. Отбыл в Париж, придумав неотложное дело, которое ждало завершения уже лет сорок (отделаться от былой своей студии). Но наивный фокус старого Анрепа не удался. Ахматова поехала в Париж и настояла на встрече с отступником полвека спустя… Впрочем, зарубежная слава настигла Ахматову еще и до поездки в Оксфорд. Ей присуждена была сицилийская литературная премия «Этна-Таормина», и для ее получения Анна ездила в Италию. Премия была вполне «прогрессивная», по линии борьбы за мир. Мир и правда для «выездной» отныне поэтессы открылся снова. Анна Андреевна старательно диктовала свою историю английской аспирантке Аманде Хейг. Да и сама она успела создать более или менее стройную историю своей долгой жизни. Посмертному умножению ее славы способствовал и мировой успех одного из последних ее любимцев, «Рыжего» из «волшебного хора», жившего в США поэта Иосифа Бродского, которому присуждена была Нобелевская премия за его русские и английские сочинения. Бродский не забыл о чудных днях молодости, о комаровских посиделках и в речи своей воздал должное Анне Ахматовой. Он и позднее говорил, что, хотя он не испытал влияния ее поэзии, она предстала перед ним как великий человек, человек великой души. Именно такой представала она во всех русских и зарубежных биографиях доброго двадцатилетия. Стихи ее издавались многократно, слава не увядала, и туристские автобусы, задержавшись на пяток минут (Cinq) у ограды писательского поселочка в Комарове, где стоит ее дачка — «будка», увозили притихших туристов на комаровское кладбище, где она похоронена…
Фаина Раневская сказала однажды об Ахматовой что-то вреде того, что страшной будет ее жизнь после смерти. Может, она имела в виду именно то, что происходит с этой «жизнью» сегодня. Собственно, в первые десятилетия закреплялась та мифологизация «великой души», к которой приложила при жизни немалые усилия сама Анна Ахматова, а потом и ее поклонницы, и ее «вдова» (или, если угодно, вдовец). Как отмечал один известный критик, этот «интеллигентский и, отчасти, диссидентский процесс» привел к канонизации образа. Но потом маятник качнулся в другую сторону. Внимательнее вчитавшись в бесчисленные мемуары, вышедшие на рубеже веков, потомки заметили натяжки, преувеличения, обнаружили, что глянец тускнеет и все меньше остается признаков «великой души». Остается популярнейшая поэзия и история выживания, но чтоб «величие»…
С началом XXI века от созданного отчасти ею самой, отчасти ее поклонниками величественного монумента великой женщины серебряного века стали откалываться какие-то крохи, вредя цельности образа. Виной был острый интерес даже не к самим ее ранним стихам, сохранившим свою популярность, а именно к личности лирической героини, терявшей свою героичность с умножением мемуарной литературы. И хотя энциклопедии и учебники по-прежнему сообщали, что она овдовела, потеряв трех мужей, что первый ее муж был расстрелян, а третий умер в лагере, что ей запрещали писать стихи, что она «пережила голод» и страшную ленинградскую блокаду, что она «всегда была со своим народом» и там, где был этот народ, многочисленные мемуарные публикации вносили обидные и ненужные поправки в эти патетические известия и в результате слегка затуманили образ мученицы — тот, скажем, что воспроизвели в лондонской мозаике или в ленинградской скульптуре знаменитые художники. Да, она была очень талантливой поэтессой, красивой женщиной (и последним гордилась, кажется, больше, чем первым). Ей довелось жить в самые страшные годы русской истории и притом уцелеть… Пришлось со всей страной пережить все «страхи соприродные душе». Впрочем, это ведь не она написала про страхи, а ее друг, Осип Мандельштам, сгинувший в лагере. «Я за жизнь боюсь — за твою рабу…», — честно написал он. Она проявляла большую осторожность и — выжила. Береженого Бог бережет. Господь ее помиловал.
Рассказывая о том, как легко Ахматова «перепосвятила» И. Берлину стихи, ранее посвященные изменщику В. Гаршину, я невольно вспомнил о Гумилеве — тот подобную операцию предпринимал гораздо чаще. И оно объяснимо: возлюбленных и друзей у «конквистадора» Гумилева было больше, чем изданных книг, а может, и написанных стихов. От полноты чувств он всем хотел сделать щедрый подарок…